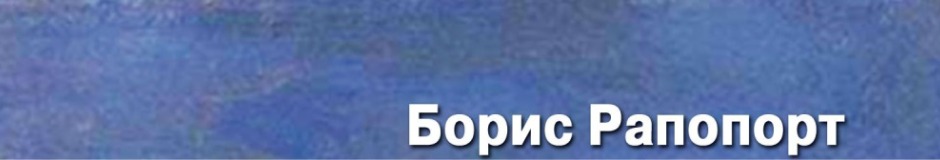"ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ". Рассказы по памяти. Избранные стихи
 Рапопорт, Борис
Рапопорт, Борис
Песочные часы. Рассказы по памяти. Избранные стихи / Б.А. Рапопорт. — Вышний Волочек: Истоки, 2017. — 232 с.
ISBN 978-5-9901675-4-4 (в пер.): 500 экз.
Борис Рапопорт
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Рассказы по памяти. Избранные стихи
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Я - игрушка с талией осиной -
куколка, двойная западня:
вниз стекают очи, облак синий...
Господи, переверни меня!
Вновь ушла душа в сухие пятки -
к непогоде так болят они,
как подняться, выжить – непонятно.
Господи, меня переверни!
Ты услышал – и душа взлетела,
Сколько в ней небесного огня,
Рвётся ввысь, вот-вот оставит тело!
Господи, переверни меня!
Я игрушка, глупый перевертыш,
я игрой уже по горло сыт,
и напрасно надо мною квохчет
и когтём гребёт иезуит –
так же я несносен и безбожен
в этом зыбком, сыпком шалаше,
что однажды на ребро положат
в утешенье плоти и душе.
2012
Рассказы по памяти
Поговорим, душа моя…
Лет двадцать тому назад, на пике кризиса мужского среднего возраста, я перенёс обширный инфаркт. Внезапно провалился, а потом поднялся над собой. Чтобы яснее выразить это состояние, позволю себе чуть-чуть переиначить любимого Фёдора Тютчева: душа смотрела с высоты на ею брошенное тело. Какие космос и земное вместе! Никто ещё в русской поэзии так не сказал (и не скажет) о тайне ухода человека в мир иной.
Когда в ПИТе (палате интенсивной терапии) под стрёмными стрелками синусоид меня откачали, я впервые подумал о том, что как в сущности всё это просто: нет смерти и страха смерти нет. Есть не страх утраты себя живого, а опаска, да, опаска того, что душа (вот капризная девушка!) унесёт с собой невесть куда всё то, что ты видел, любил, чем жил. Куда побежит она, богатая невеста, с этим немыслимым приданым? Одному Богу известно. А, может, и правильно она сделает, утаив от постороннего взгляда твои большие и малые житейские события, встречи, впечатления – всё, чем отличалось твоё маленькое бытиё от сотен и миллионов прочих маленьких жизней?
Вопрос риторический, не правда ли? Согласен. Потому и не собираюсь заниматься глубокой философией на мелких местах. Равно как и наоборот. К тому же далеко не каждый способен раскрыть себя людям, не красуясь перед ними, не стараясь показать: вот ведь я какой! Кроме того, сколько постыдного и ненужного бывает в судьбе каждого из нас, не говоря уже о сокровенном, не требующем стороннего глаза. А рядышком опять же Тютчев с его неоспоримым: мысль изреченная есть ложь…
И всё-таки, как говаривал иной классик, года к суровой прозе клонят, а точнее – к занесённым на бумагу воспоминаниям. И вот уже на своей седьмой заставе (восьмой десяток лет пойдёт) постараюсь и я кое-что вспомнить. Чтобы живыми остались люди, которых видел и знал, коими дорожил. Может быть, эскизные наброски прошлого ещё кому-то пригодятся. Жить не научат, но думать заставят. С этим-то ты согласна, душа моя? Не смотри с высоты на живого ещё автора так сурово…
***
Потому-то и томят, звеня,
чёрный снег и красные качели,
что с тобой родной, душа моя,
мы наговориться не успели.
Ты повесь наш старый разговор
на звезду, на ёлку, на перила:
всё игрушки, жизни лёгкий сор,
лишь бы ты опять заговорила –
торопясь и лепеча сперва
бедной рифмой, слепотою слога,
но верни убогие слова –
камешки твои во рту у Бога.
Февраль 2015
А и Б на кубиках сидели
Мой дедушка Илья Борисович Рапопорт был, по весёлому и точному определению И. Ильфа и Е. Петрова, «кустарь-одиночка без мотора». Он не служил в госучреждениях и не работал на госпредприятиях, потому что ему это было запрещено. В 1928 году его с семьёй – женой и сыном – выслали из Ленинграда «на 101-й километр». На выбор предложили три местожительства: Псков, Великие Луки и Вышний Волочёк. Остановились на Вышнем Волочке – древнем русском городке меж двумя столицами. К слову сказать, в пору своего детства, уже в пятидесятые годы прошлого века, я познакомился и с другими «социально чуждыми» Советской власти «элементами», которые подобно моему дедушке были высланы в Волочёк из столиц, в годы великих строек. За что? Скорее всего за неосторожно обронённое слово, несовместное с генеральной линией ВКП (б). Среди этих людей запомнилась тётя Нина. В Вышнем Волочке она торговала на рынке самодельными ёлочными украшениями – картонными балеринами в кисейных юбочках, весёлыми клоунами-арлекинами с физиономиями из яичных скорлупок… Многие такие игрушки украшали и мои первые домашние ёлки, и ёлку в школе. Сама рукодельница, такой же «кустарь-одиночка», как и мой дедушка, непрестанно курила «Беломорканал». Она наполняла «дымовухой» нашу маленькую комнатушку, сидя на табурете, закинув нога на ногу и безапелляционно рассуждая о «делах давно минувших дней», например, о любовных похождениях дореволюционного фабриканта Путилова, которого «знала лично», или о «текущих политических событиях». Всем этим чрезвычайно недовольна была моя бабушка Блюма: во-первых, муж её Илья никогда не курил, а во-вторых, ей как доброй наседке, опекающих своих цыплят (в том числе и меня), были, видимо, неприятны опасны разговоры в доме, квохтанье гостьи, от которого, не да Бог, в очередной раз можно было пострадать. Впрочем, бабушка терпела, стараясь лишь время от времени переводить стрелку разговора на простое, обыденное – например, на то, «что почём» на рынке.
Среди прочих вышневолоцких «ссыльных», с которыми я познакомился в детстве, у меня до сих пор огромное уважение вызывают музыкант и композитор Валентина Михайловна Шульгина и театральный актёр и режиссёр Андрей Евграфович Волховской. Истинные русские интеллигенты (есть ли такие сегодня?) они очень многому научили меня и наверняка появятся в этих воспоминаниях. А сейчас вернусь в родные пенаты, в дом № 9 на Набережной Цнинского канала – так тогда называлась эта тихая улочка напротив городского сада с непременным духовым оркестром по вечерам. И самого сада давно нет, и улочка вошла пунктирной оконечностью в Ванчакову линию. А деревянный дедушкин домик во дворе, состыкованный с выходящим на улицу кирпичным фасадом бывшего купеческого особняка, ещё жив. И проходя мимо него, я всегда вспоминаю дедушку Илюшу.
Второго своего деда – маминого отца щирого украинца, а скорее – новороссийского казака-станичника, председателя комитета бедноты и милиционера Григория Ивановича Ольхова я, к сожалению, не знал: он погиб, а точнее пропал без вести на фронте под Ростовом до моего рождения, в первый же год Великой Отечественной войны. Я пытаюсь отдать дань его памяти в своих стихах и вы ещё их прочтёте в этой книге. А теперь вернусь к дедушке Илюше, которому обязан и профессией журналистской своей, и тем, что стихи пишу всю жизнь. Что я знаю о человеке, который столько мне дал, пытаясь напитать разумным, добрым, вечным? Увы, очень немногое. Однако с высоты лет своих, кое-что почерпнув из зрелых уже разговоров с отцом, с его сёстрами, прочими родственниками, попытаюсь восстановить нелёгкое житие Ильи Борисовича Рапопорта.
Ярым врагом Советской власти, как я теперь понимаю, он никогда не был. Родом из бедной семьи с четырнадцатью ребятишками мал мала меньше, из еврейской «черты оседлости» под Черниговым, он всей душой был за Великую Октябрьскую революцию, столетие которой приходится на 2017 год. Многие сёстры и братья деда со временем получили высшее образование, что было немыслимо для российских «иноверцев» в царские времена. Некоторые из них стали видными инженерами, экономистами, педагогами, работали в органах власти. И будучи комсомольцем, встречаясь с ними, я всегда недоумевал: почему же одному моему дедушке из всей многочисленной родни так не повезло при новой власти? Повторяю: врагом этой власти он не был. Нередко вспоминал события в Петрограде 1917 года, как ходил на митинги, слушал Ленина у Финляндского вокзала, а потом Троцкого. Правда, сравнивая их ораторские таланты, предпочтение отдавал Троцкому. И как не боялся? Ведь Троцкий давно был уничтожен его соперником в борьбе за власть – Иосифом Сталиным. Вот уж кого мой дедушка точно не любил – «святого Иосифа». Мне было всего пять лет, когда 5 марта 1953 года по радио сообщили о смерти Сталина, но на всю жизнь осталась в памяти такая домашняя картинка: мои тётки-старшеклассницы Тамара и Лия («комсомолки, студентки, спортсменки», как сейчас бы сказали) горько рыдают у чёрной тарелки радиорепродуктора, а отец Илья успокаивает дочерей: что вы ревёте, дурёхи, один тиран помер – другой найдётся… Какой была реакция воспитанных сталинской школой советских девчонок, что воспоследовало за репликой отца-«утешителя» - об этом лучше умолчу…
Однако пора сообщить, за что уже при входящем в силу Сталине пострадал мой дед, за что был выслан с берегов Невы на 101-й километр. Всё очень просто. В начале двадцатых годов прошлого века ему пришлась по душе объявленная Лениным новая экономическая политика. Тем более, что занялся, говоря нынешним слогом, предпринимательством его тесть, отец моей бабушки. Но прошло пять-шесть лет и «верный соратник Ленина» Иосиф Сталин ленинскую политику свернул, и бывший нэпман Илья Рапопорт (а семейное дело было оформлено предусмотрительным тестем на него, молодого) был выслан из Ленинграда на всю жизнь с прилипшим официальным ярлыком – «лишенец». Лишён избирательных и прочих гражданских прав, лишён возможности трудоустройства на госпредприятия и в госучреждения. Но права Родину защищать его не лишили. И едва грянула Великая Отечественная, как он, уже сорокатрехлетним, отправился в действующую армию – правда, по возрасту на передовой ему служить не пришлось. Был, как вспоминал, «конюшим»: ухаживал в кавалерийской части за лошадьми. И писал патриотические стихи в армейскую газету.
И вот теперь пришла пора перейти и к стихам, и к той самой азбуке на кубиках, о коей заявлено в заголовке этой главы. Поэзия к любому, даже самому далёкому от неё человеку впервые стучится в сердце маминой колыбельной. Младенческий возраст, увы, её забывает, как сон, хотя порою так и подмывает сказать: как сейчас помню… Увы, не помню и врать не буду, хотя всегда удивляюсь: откуда, из каких глубин памяти любая молодая мама берёт для своего дитяти те же самые вечные слова и напевы, которые звучали и над её колыбелькой? Вот и сейчас слышу: за стенкой моя дорогая супруга, давно дважды мама и трижды бабушка, напевает нашему самому младшему внуку (какое счастье – он нынче у нас гостит!) баю-баюшки-баю, и обласканный песней ребёнок смежает веки.
Мужики, понятно, над колыбелью не поют. Однако порой приходилось заменять в этом благородном деле свою уставшую половину и укачивать старшую дочь (уж больно беспокойной, горячей она росла, такой и остаётся). Вспоминаю, что же я пытался напевать, ходя с дорогим кульком на руках из угла в угол, а потом отчаянно качая колыбельку? А-а-а? Баю-бай? Возможно. Но гораздо чаще вот это, вот это самое:
Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту…
Если вспомнить «Гренаду» Михаила Светлова, то так и подмывает спросить: откуда же, хлопец, песня твоя? Да всё оттуда же, от дедушки Илюши! Потому что в памяти очень ярко всплывает такая картинка. Мне, должно быть, годика три, не больше. Я не хочу идти спать и строю на полу домики из обрезков картона, которые падают со стола – дедушка с бабушкой деловито мастерят свои фотографические рамки на продажу, а дедушка ещё и тихо мурлыкает:
Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?
«Песня цыганки», автор – Яков Полонский, изумительный, но, если не считать этого романса, изрядно подзабытый автор ХIХ века. Стихи, будоражащие сердце, и, (как это по Фрейду?) мужское начало: «На груди моей развяжет…» Вы скажете: «Какой Фрейд для трехлетнего, Бог знает что городишь!» И будете правы и… не правы. Потому что чудо лирической поэзии в том и состоит, что чувственные слова и понятия, даже ещё не знакомые тебе, не усвоенные умом, способны запасть в душу, если выстроены так, как этого и требовал Господь, породивший Слово. Не случайно же английский классик Джон Кидс сказал, что стихи – это «лучшие слова в лучшем порядке». (Я почти согласен с англосаксом, хотя как русский поэт порой негодую: и чего это он в своём точном определении позабыл про самое главное – душу человеческую! Впрочем, тут же одёргиваю себя: современные постмодернисты в ней не слишком нуждаются, а пишут со знанием дела, изобретательно, с привлечением блестящих аллюзий… )
Прости, уважаемый читатель, я отвлёкся от главной темы. А потому вернёмся в комнату моего детства и составим более или менее точную картинку из пазлов (ещё раз прости, какие пазлы!) – из детских кубиков середины ХХ века. Эти кубики дедушка привёз мне из Москвы, куда раз в месяц ездил за картоном, тиснёной бумагой, красками, клеем и прочим сырьём для своего кустарного производства. Никаких детских кубиков, как и вообще хороших игрушек, тогда, после жестокой войны, в магазинах российской глубинки не было. Мы гоняли по улице железные обручи – обода от рассыпавшихся бочек, играли в «войнушку» самодельными саблями и ружьями из палок, а ещё в салки, лапту, «ножички», городки (дедушка, кстати в своей столярной мастерской сам сделал для меня и соседских ребятишек и биты и рюхи). Зимой на Цнинском канале мы расчищали от снега хоккейную площадку и гоняли по льду упругий мячик самодельными клюшками. Из домашних игр помнится традиционная для праздничных семейных вечеров лото с доставанием игральных бочонков из холщового мешочка. Столичные кубики были моей первой, как сказали бы сейчас, развивающей игрой.
Правда, кубики эти оказались довольно странными. На их рёбрышках, обклеенных прочной белой бумагой, красовались не яркие картинки, требующие собирания и узнавания, а большие чёрные литеры русской азбуки. Вот буква А, а это какая? Постоянно приставая к бабушке, к дедушке, к маме и папе, когда они вернулись из своей командировки, я уже через пару недель хорошо познакомился со всеми буквами и даже научился составлять из них слова. И тогда внештатный педагог Илья Борисович пошёл дальше – он привёз из Москвы мою первую книжку. Чудесную сказку «Конёк-Горбунок» Петра Ершова. Правда, картинок-иллюстраций в книжке почти не нашлось, зато были такие складные, такие читаемые уже строчки:
У крестьянина три сына,
Старший умный был детина,
Средний был и так, и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Самый младший в доме, я не хотел быть дураком. И охотно принял предложение ежевечерне сидеть со взрослыми за столом, когда они работают, и читать вслух «Конька-Горбунка». Уже не помню, за сколько дней одолел (сначала по складам, а потом всё быстрее и быстрее) всю книжку, но это случилось – в четыре года научился читать! Кроме того, Пётр Ершов заставил меня даже в обычном разговоре постоянно приставлять к какому-либо слову рифму. «Ну вот и ещё один графоман у нас появился», - улыбнулась бабушка (намекая, видимо, на дедушкино пристрастие к сочинительству).
Дед тоже улыбался, мурлыкая традиционную «Песню цыганки». Потом спросил: «А хочешь послушать настоящие стихи?» И прочёл:
Не говорите мне: «он умер», он живёт,
Пусть жертвенник разбит, – огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана, – она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана, – аккорд ещё рыдает!..
Я слушал как зачарованный: до чего же складно и красиво! Много лет спустя перечёл эти стихи Семёна Надсона, далеко не первой руки поэта-предтечи Серебряного века, и до чего же претенциозными, выспренними, слащавыми показались мне они! Однако и сегодня наизусть их помню. Потому что это были первые услышанные мной настоящие стихи. Потому что дедушка когда-то мне читал любимого поэта своей юности. Потому что тогда же, в раннем детстве, я услышал от Ильи Рапопорта столько и других изумительных и сильных русских строк. Например, вот это, от Евгения Баратынского:
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
Кроме того, он читал мне наизусть, ещё ничего не понимающему, но впитывающему в душевные поры музыку стиха, Майкова и Фета, Случевского и Анненского, Аполлона Григорьева и Алексея Толстого. И, конечно, Пушкина с Лермонтовым. До сих пор не могу понять, откуда мог всё это знать выходец из бедной семьи, которая к тому же при тогдашней пятипроцентной норме поступления евреев Российской империи в гимназии, не могла дать ребенку классическое образование. В мои ранние годы взрослые детям, а тем паче внукам, о себе почти ничего не рассказывали. Потому что время было такое: подробные знания о судьбах старших – «лишенцев», а то и «врагов народа» - молодым могли только навредить. Уже гораздо позже, во времена советской «оттепели» из разговоров с пожилыми сёстрами своего деда, моими двоюродными бабушками, я кое-что сумел прояснить для себя: да, в гимназии Илья Рапопорт до революции учился. Сдав все вступительные экзамены на пятёрки, он сумел попасть в число «пятипроцентников», но, проучившись четыре класса, был отчислен «за участие в беспорядках».
Вот ты, оказывается, какой, мой дедушка! И юный революционер, и жертва революции в единой ипостаси. Отверженный для наследников Октября. Чтобы прокормить семью, поднять детей, дать им образование, ты всю жизнь занимался тем, что ныне, после контрреволюции, с придыханием называют малым бизнесом. И это пародоксально, поскольку за предпринимательство ты и был изгнан с берегов Невы на Цнинский канал. Но ты чётко усвоил правила игры с государством – лишённый гражданских прав, исправно, сообразно патенту, платил государству налоги. Твой пример лишний раз доказывает, что неча на власти пинять, коли рожа крива. А человек, у которого с лицом всё в порядке, выживет, выстоит при любой власти. Вопреки самой жестокой.
Впрочем, подобные размышления по некотором времени уже и мне неинтересны. Прости, дед, и считай, что глупо шутит твой внук. Для меня ты был прежде всего настоящим человеком. Страстотерпцем и Учителем. Потому и мечтаю, чтобы не только мне, но и потомкам нашим твоё бытиё, согласно Евгению Баратынскому, было любезно…
***
У деда шершавые были пальцы,
Будто бы глину весь век лепил.
Дед не любил недомолвок и фальши,
Но сказки мой дед – это точно – любил.
И вечером он, как моряк от причала,
Руками отталкивался от стола.
Над скатерью сказка брала начало
И дальше к окошкам седым плыла.
А я был хитёр – я знал всё заране,
Но, примостившись в ночном уголке,
Снова выслушивал об Иване
И о его Коньке-Горбунке.
Сказками дом до краёв был наполнен –
Каждая жалась ко мне локотком.
Я позабыл их давно. Но помню
Деда, склонившегося над верстаком.
Верно, и впрямь, чтобы он ни делал,
Всюду мог сказку сплести-связать.
Нет на земле у меня теперь деда,
И некому сказку мне рассказать.
1963
БЕССМЕРТНИК
Время вынесет и сменит
Дней стремительный поток.
Но рождается бессмертник - удивительный цветок.
Не гвоздика, не рябина –
Время их не сохранит –
Взгляд далёкий и любимый
Лишь бессмертник окаймит.
Над знакомой с детства рамкой
Он горит, как этот взгляд.
Кровоточащею ранкой
Лепестки его сквозят.
1964
ОСОБНЯК НА ЕКАТЕРИНИНСКОЙ
1.
Проходя лет пять тому назад мимо старинного особнячка на Екатерининской улице, двухэтажного, в три окошка по фасаду, всякий раз, невольно замедлял шаг, хотя у меня не было срочных дел в располагавшемся здесь городском управлении по делам физической культуры, спорта и туризма. Тем паче не останавливал привычный контраст: рядом с ярким современным бутиком – ветшающий, теряющий былой лоск старичок, построенный в конце XIX – начале XX века с претензиями на мелкопоместный «ампир». Подобных контрастов в нашем Вышнем Волочке немало – чему удивляться? А замедлял шаг, чтобы отдать дань профессиональному знанию: именно здесь родилась наша вышневолоцкая пресса. В этом здании располагалась редакция первой местной газеты «Вышневолоцкий голос»: Демидов, земляк купеческого сословия, вспоминаемый и как один из основателей Вышневолоцкого драматического театра, издавал эту газету в 1912 году. И, значит, «Вышневолоцкая правда», которая почему-то ведет свое летоисчисление не от демидовского «Голоса», а от послереволюционных «Известий Вышневолоцкого Совдепа», уже могла бы отметить свой столетний юбилей.
Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Стоит ли корить городскую газету за то, что она «молодится» – каждый из нас не прочь сбросить и в паспорте, и в естестве своем пяток-другой лет.
Опять же и по личной причине у особнячка останавливался: в этом здании и мое рождение состоялось – как журналиста, человека, посвятившего прессе почти полвека трудовой биографии.
2.
В конце пятидесятых годов, во времена хрущевской «оттепели», я учился в шестой средней школе на улице Первомайской (ныне – Ванчакова линия). В отличие от нынешней школы под тем же номером окна моей глядели на Петербургский мост, а накатанная зимой снежная горка спускалась прямо в Обводной канал. Как и теперь, впечатляла лебединая красота Богоявленского собора. А летними вечерами из городского сада через Цнинский канал летели в распахнутые школьные окна медовые звуки духового оркестра.
Все это вместе взятое не могло не волновать, не настраивать на поэтический лад. Вот и я еще в третьем или четвертом классе пристрастился к стихотворным опытам – тем более, что их усердно поощрял мой дедушка Илья, знавший наизусть русскую поэзию – от Пушкина и Лермонтова до Тютчева и Фета, Майкова и Полонского. А в пятом классе я прямо-таки помчался за Пегасом, поскольку обрел родную душу в своих удивительных преподавателях – учительнице русского языка и литературы Любови Викторовне Мумлиенковой и завуче Александре Михайловне Васильевой. Александра Михайловна даже подарила мне большую разлинеенную «гросбуховскую» книгу, чтобы и в нее, а не только в школьную стенгазету, помещал каждое новое стихотворение. Спустя много времени, уже в двадцать первом столетии, я вернул эту книгу в школьные стены: кому интересно, загляните в библиотеку нынешней средней школы N 6.
3.
Прошу у читателя прощения за лирическое отступление: с него-то и начинается мой первый поход в редакцию. В декабре 1959 года в предвкушении новогодних праздников я сочинил соответствующий опус:
Куранты бьют двенадцать ровно,
Веселый мелодичный звон,
И по стране моей огромной
Повсюду раздается он – и т.д. и т.п.
«Недурно», – заметили и дедушка, и учителя. И посоветовали отнести стихотворение в «Вышневолоцкую правду».
С превеликой робостью вошел во двор особняка на Екатерининской (тогда улица называлась проспектом Советов), открыл тяжелые двери, поднялся на второй этаж и направился к застекленной двери в конце коридора.
– Можно?
– Вы к кому, молодой человек, – поднял голову от бумаг человек в толстых, с двойными линзами, как показалось мне, очках.
– К вам, наверное, – стихи у меня…
– Ну что ж, давайте почитаем.
Ответственный секретарь редакции Иван Иванович Беликов отнесся к мальчишке весьма
серьезно и потом многие годы давал читать редкие книжки из своей богатой домашней библиотеки. Его веского слова я всегда ждал и на собраниях литобъединения при редакции. Чрезвычайно интеллигентный, Беликов был своего рода центром притяжения для многих тянущихся к знаниям. Кроме того, в его узком, похожем на пенал кабинете часто бывали очень интересные люди. Приходил вечно взбудораженный какими-либо городскими неполадками Владимир (отчество не помню) Раупах. Меня даже смешило, как этот почтенного возраста человек с седой артистической гривой горячится, машет руками, стучит по столу, хватается за ускользающие полы плаща-пальто, похожего на дореволюционную «разлетайку» земского деятеля. Похоже, это одеяние и было таковым, поскольку Раупах, по словам Беликова, приносил заметки еще в демидовский «Голос». Частым гостем здесь был Николай Тимофеевич Смирнов, еще одна легендарная вышневолоцкая личность, большой знаток истории родных мест, автор книги «Октябрь в Вышнем Волочке» и десятков газетных краеведческих публикаций.
А однажды в кабинете-пенале я увидел солидного человека с абсолютно лысой, гладкой, как кегельный шар, головой и острыми пронзительными глазами.
– Это наш юный корреспондент, еще и стихи пишет, – представил меня Иван Иванович гостю.
– Очень приятно, молодой человек, – протянул тот руку мальчишке. – А филателией или, скажем, филокартией не увлекаетесь?
На столе ответсекретаря гость разложил несметные богатства – кляссеры с почтовыми марками разных эпох и стран, старинные монеты и, главное, удивительные черно-белые открытки. Это были впервые увиденные мной старинные виды Вышнего Волочка. А хозяином коллекций оказался приехавший навестить свою малую родину из Ленинграда Соломон Кусевицкий. Правда, тогда это имя мне мало что говорило, хотя он что-то и рассказывал о своем знаменитом брате. И как же ругал я себя спустя годы, что пропустил мимо ушей этот рассказ: ведь слушал родного брата самого Сергея Кусевицкого – уроженца Вышнего Волочка, выдающегося музыканта, имя которого носит городская школа искусств.
И еще об одной встрече у Беликова хочу вспомнить – с Николаем Панченко, прекрасным поэтом-фронтовиком, имя которого основательно подзабыто, хотя достойно имен классического ряда отечественной поэзии двадцатого столетия. У меня, к счастью, хранится «Вышневолоцкая правда» от 26 сентября 1962 года. На первой полосе вокруг газетного текста поэт размашисто написал: «Боря Рапопорт, хочется, чтобы ты не забыл это: старайся всегда понять себя правильно. Тогда тебя поймут другие. Доскребись до себя настоящего: большого и маленького, сильного и слабого – до себя живого, единственного, неповторимого». Каждому бы такое напутствие!
4.
Однако вернемся в год 1959-й, в другие кабинеты редакции «Вышневолоцкой правды» – газеты, которая выходила тогда на четырех полосах три раза в неделю тиражом почти в десять тысяч экземпляров. Получается, что почти каждый пятый вышневолочанин ее выписывал, потому что в киосках тогда местной газеты продавались считанные экземпляры.
После того как мои стихи про куранты появились в новогоднем номере на первой полосе под рисунком с теми самыми кремлевскими курантами, пятиклассник шестой средней школы стал завсегдатаем редакции. И приносил уже не только стихи, но и заметки. Конечно, в основном из школьной жизни. Но опять же порой с рифмой.
Помню, в 1961 году в редакцию приняли корреспондентом франтоватого, постоянно полирующего ногти молодого человека – Виктор Иванович Никитин (или Ревеницкий, поскольку родился в деревне Рвеница) вернулся домой с берегов Невы, не закончив полного курса факультета журналистики в ЛГУ. Он тоже писал стихи, по сравнению с моими полудетскими «на голову выше». И вот его, штатного корреспондента, и меня, юнкора, пригласил к себе в кабинет главный редактор газеты Петр Васильевич Андреев. Он предложил нам вдвоем написать репортаж о предстоящем пионерском параде в честь 19 мая – Дня пионерии. Этот репортаж и появился в очередном номере на первой и третьей полосах. Правда, в провинциальной газете он выглядел несколько странно, поскольку все события пионерского шествия излагались в… стихотворной форме. Однако Петр Васильевич потирал руки, говорил: «Молодцы. Ребята! Такого еще ни в одной газете не было». Прекрасно дополняли репортаж снимки Виктора Уточкина. Этот фотокорреспондент «Вышневолоцкой правды», а впоследствии многотиражной газеты «Вышневолоцкий текстильщик» был настоящим фотохудожником. Помнится, его снимки попали даже в центральную печать – после того как Вышний Волочек в апреле 1964 года посетил сам Юрий Гагарин. Виктор Уточкин сопровождал космонавта во всей поездке по нашинским местам, был рядом с ним на заводе «Красный Май», на хлопчатобумажном комбинате и, конечно, в драматическом театре.
Вместе с Уточкиным мы освещали устроенный в день приезда героя космоса «пятый слет ударников и коллективов коммунистического труда». Я писал на ватмане восторженный стихотворный текст об этом событии, а Виктор Уточкин тут же прикреплял свои свежие снимки. Остается догадываться, где (не за сценой ли?) он так оперативно обрабатывал фотопленку и печатал снимки. А еще хочется знать, сохранились ли фотоархивы этого настоящего мастера светописи, хотя бы архивы, связанные с приездом в наш город Юрия Гагарина…
5.
А теперь еще о главном редакторе. Петр Васильевич Андреев не только давал задания штатникам и внештатникам, но и перед отправкой в типографию, уже после ответсекретаря, вычитывал каждую заметку – сам не раз это видел.
Вообще-то Петр Васильевич был фигурой весьма колоритной. Сидел за рабочим столом в бухгалтерских нарукавниках (как я теперь понимаю, чтобы не вымарать свежими гранками – оттисками типографского набора – рукава белой рубашки). «Строгим дяденькой» однако не казался. Был добродушен, часто весел, не чурался соленой шутки. Запомнилась, к примеру, такая. Когда к особняку редакции во дворе сделали деревянную пристройку, поскольку в этом же здании должна была разместиться еще одна редакция – межрайонной газеты «Ленинец», новый кабинет Андреева на втором этаже стал ближе к туалету. «Еще один пинок – и я в уборной!» – заявил Петр Васильевич с «пророческой» улыбкой. В столь непотребном месте старый кадровый работник, участник Великой Отечественной войны, конечно же, не очутился. Работал главным редактором до пенсии, хотя порой изумлял даже юнкора довольно странным произношением русских слов. Говорил, например, «жандр» вместо «жанр», «рублика» вместо «рубрика». Грамотешки, видать, не хватало, как и многим в те годы. (Вот написал и – ожегся: а сейчас-то все из нас хорошо знают русский язык? Даже в центральной прессе или на бегущей строке по ТВ та-ко-е встретишь!)
Впрочем, Петр Васильевич при всем кажущемся «несоответствии» обладал острым журналистским нюхом,редакторским чутьем. Когда Валентина Гаганова, прядильщица хлопчатобумажного комбината, перешла из передовой бригады в отстающую, чтобы поднять и эту бригаду, первым рассказал о добром почине в передовой статье «Вышневолоцкой правды» именно Петр Васильевич Андреев. Спустя неделю его передовицу перепечатала областная «Калининская правда». Не прошло и двух недель – и счастливый, сияющий Андреев обходил редакцию уже со свежим номером центральной «Правды»:
– Читайте, на весь Союз прославились. Вот что «Правда» пишет, да не где-нибудь, а в передовой статье: «Первой заметила и верно оценила патриотический почин Валентины Гагановой газета «Вышневолоцкая правда».
Тут, как говорится, не убавить – не прибавить. А счастлив Андреев был наверняка не только тем, что его газета «прославилась», но и что сумела успешно сыграть уготованную ей в то время роль «коллективного пропагандиста и организатора».
Из газетчиков 50–60-х годов не могу не вспомнить и Ивана Ивановича Евграфова. Уже тогда седой, опирающийся на палочку (ногу «зацепило» на войне), он был «вечным замом». Однако во многом определял политику газеты. И не только потому, что вел партийный, идеологический отдел. Весьма рассудительный, он действовал по принципу «Семь раз отмерь». Это, думается, не раз «спасало» редакцию в трудных ситуациях. Однако, когда требовалось защитить от произвола чинуш простого человека, Иван Иванович не стеснялся ходить за поддержкой в горком партии, в народный контроль, требовал справедливости, а коли не добивался, не боялся дать в газете острый «сигнал». Кроме того, Евграфов был хорошо известен в городе как один из авторов первых книг-биографий наших предприятий: «На берегах Шлины» (о стеклозаводе «Красный Май») и «Славный путь» (о хлопчатобумажном комбинате).
…Прошли годы. При горбачевской «перестройке», будучи заместителем редактора «Вышневолоцкой правды», я не раз навещал своего давнего предшественника дома. Евграфов тяжело болел, но всегда был рад и гостю, и подаркам от редакции к Дню печати, и рассказам, как теперь газета живет. Увы, в те же 80-е годы мы вскоре шли за гробом старшего коллеги. Иван Иванович Евграфов похоронен в Теплом на аллее Славы знаменитых земляков. Неподалеку от него покоятся Рудий Матюнин и Константин Рябенький – люди, чьи жизнь и творчество в той или иной степени тоже были связаны с «Вышневолоцкой правдой». Мир вашему праху и вечная память, дорогие моему сердцу други, рыцари пера!
6.
«Всем хорошим во мне я обязан книгам», – заметил классик. Автор этих строк тем же обязан и первым наставникам в журналистике – редакциям «Вышневолоцкой правды» и «Ленинца». Раннее знакомство с газетной «кухней», перо юнкора повлияли на творческий рост, позволили еще в школьные годы познакомиться с людьми «делать жизнь с кого»: первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, поистине великим вокалистом Муслимом Магомаевым… Такие встречи не проходят бесследно. Мысль приобретает полет, а чувства – свежесть. Всю жизнь благодарен «Вышневолоцкой правде» и за то, что она увидела во мне не только будущего газетчика, но и поэта. Именно эта газета дважды не пожалела дать по целой полосе моим юношеским поэмам «Голуби» и «Щедрость».
Больше полувека назад я переступил редакционный порог. Впереди были публикации во всесоюзном журнале «Смена», в книгах и альманахах, учеба на журфаке МГУ, газетные «университеты» в молодежных изданиях Алтая и Белгорода, возвращения на круги своя – в газеты «Вышневолоцкая правда» и «Ленинец», стезя главного редактора в «Спировских известиях» и снова родной город, завершение профессиональной карьеры в газете «Земля выш-неволоцкая» – в творческом тандеме с Эмилией Морозовой. Кстати, с ней я работал в местных газетах и прежде, а она долго вспоминала, как впервые увидела меня, тоже школьницей, в 60-е годы на заседании литобъединения в той же «Вышневолоцкой правде». В этой газете росли либо сотрудничали с ней не только талантливые журналисты, но и известные всему Верхневолжью организаторы газетного дела: Татьяна Галахова, Тамара Водичева, Алла Логинова, Галина Титова, Дмитрий Фадеев. В «ВВП» начинал творческий путь Георгий Киксман, впоследствии видный столичный журналист, главный редактор журнала «Библиотекарь», редактор одного из приложений к популярным «Аргументам и фактам». И многие из этих коллег, подобно мне, приносили свои первые заметки в маленький особняк на Екатерининской улице. Всем хорошим в себе ему, старичку, обязаны…
***
Кто козла усердно забивает
или чрево тешит шашлыком,
кто-то просто вещи забывает,
утопая в небе золотом.
Забывает орденские звоны,
липкие похвальные листы,
зеркала, айпады и айфоны,
и коллайдер, Господи прости…
А другой, не мысля о награде,
оставляет, как случайный гость,
возле лампы жёлтые тетради
и в прихожей пушкинскую трость.
2016
БЕССМЕРТНЫЕ МОИ…
1.
Будучи журналистом, хорошо помню традиционные газетные штампы советской поры. Например, очерк о знатном комбайнёре, собирающем высокие урожаи на полях родного колхоза, обычно глубокомысленно заключался фразой: «Где родился, там и пригодился». Не исключаю, что сам подобным штампом по молодости грешил, хотя не пригодился там, где родился…
У меня одна родина с мамой: донбасские степи, село Бирюково, раскинувшееся по обе стороны речки Кундрючей. Та самая Новороссия, которую некогда, как и Крым, причалил к Российской империи сиятельный князь Потёмкин Таврический и коя нынче снова рвётся в лоно материнское. Это и в самом деле русская земля, хотя говорят здесь на суржике – смеси русского с украинским. Дядя Коля, мамин брат, некогда мне объяснял: «вон в том хуторе балакают, там хохлы живут, а у нас говОрят… И произносил он это «говорят» с мягким фрикативным Г в начале слова с ударением на втором слоге.
В 1947 году папа и мама увезли меня из Бирюкова на север в Вышний Волочёк младенцем, опасаясь и за мою, и за свою жизнь. Из-за неурожаев жутко голодными были здесь послевоенные годы. Отец работал военруком в местной школе, но на его зарплату купить было нечего. Чтобы как - то прокормить семью, бывший боевой офицер таскал по ночам с колхозных полей жмых – уже выщелученные, освобождённые от семечек шляпки подсолнуха, его варили, им и питались. Не только мать и отец, но и бабушка Ксения со своими далеко ещё не совершеннолетними детьми – младшими братьями моей мамы.
Понятно, что подобную «мемуаристику» я восстанавливаю по более поздним рассказам своих родителей. Вместе с ними снова, а по сути дела впервые, побывал на своей малой родине уже пятнадцатилетним. Причём сначала не в Бирюкове, а в Гукове. В этот шахтёрский город Ростовской области, где у бабушки Ксении, как и в своём селе, была многочисленная родня, ей, вдове фронтовика, удалось перебраться с детьми вскоре после нашего «побега» из Бирюкова. Василий, самый старший из трёх маминых братьев, отслужив в армии, работал в милиции, потом перебрался к нам в Вышний Волочёк и, хорошо зная шофёрское дело, устроился работать в автоколонну. А ладшие – Коля и Саша – за «казённый кошт», то бишь обеспеченные и питанием, и форменной одеждой, выучились в ФЗО – школе фабрично – заводского обучения и стали горняками, добывали в шахте уголь.
Хорошо помню, как «всем гуртом» - с мамой, папой, бабушкой Ксенией, дядей Колей и его женой Катей – отправились в Бирюково: «побачить, як родня живе».
Ехали быстро. Километрах в десяти от Гукова пересекли границу Ростовской области, оказались в Луганской (тогда она называлась Ворошилоградской), остановились в Червонопартизанске, потом в Свердловске (райцентре, в роддоме которого я и появился на свет), а ещё через 15-20 километров на горизонте появилось село Бирюково.
… Возвращались поздно, но спать не хотелось. Я вглядывался в тёмное автобусное стекло. Безлесье, степь с редкими лесопосадками и стАвками – водоёмами. Высокие терриконы с отработанной пустой породой возле многочисленных шахт. Белёные мелом хатки – мазанки. Тёплый ветер. Высокие сочные звёзды над головой, а в ней – знакомые с детства строки: «Тиха украинская ночь…» Тишина, божественная, врождённая, такой была, что совсем не вязалась с услышанными за длинный день рассказами взрослых о некогда рвавшихся здесь снарядах, о пушках и танках, об огне, который опалил их жизни. Да не было здесь никакой войны! Если бы так…
Впрочем, не буду лукавить. Тогда в рассказах взрослых за гостевым столом в Бирюкове меня, пятнадцатилетнего, больше всего поразили ни пушки, ни танки, ни бомбы. Даже рассказы о зверствах фашистов и муках героев - молодогвардейцев, сброшенных ещё живыми в шахту в Краснодоне (от Бирюкова до Краснодона рукой подать), не стали откровением. Обо всём этом я уже хорошо знал и по «Молодой гвардии» Александра Фадеева, и по другим книгам о войне, и по многим хорошим советским фильмам. Больше всего меня тогда поразила будничная, если можно так определить, изнанка войны. Я уплетал за обе щёки яишню на сале, взрослые поднимали стопки с горилкой, закусывая пелюсткой – крупно нарезанной квашеной капустой. А бабушка Ксения почти ничего не ела. Перемешивая украинские и русские слова, вспоминала:
- Ой лишеньки було, диты, ой, лишеньки. От батьки вашего с начала войны ни весточки. Тоби, Нюра, тильки-тильки нимцы забрали. А на другий день вчитель пришёл, тот самый полицай, который вас, дивчин, в Германию отправлял. До хаты колотится, спрашивает: и хде твой старший хлопчик? Хорошо, Васьки дома не було, он пишёл на ставок рыбачить. К ночи пришёл, а к утру я ему справила на огороде новую хатку - из кизяков. Так и сидел в ей целыми днями. По ночам ему картох да хлиба, если достану, носила. Он так в кизяках и сидел. Месяц почти. Пока нимцы план не выполнили, и хлопцев да дивчин перестали в Германию угонять…
Слушая бабушку, я спросил:
- А что такое кизяки?
- По-вашему – навоз. Сухой тильки. Из его у нас хатки лепят с прутьями. Потом глиной мажут, мелом белят. Вот тоби и хатка. Тильки тогда кизяк сухой ещё был, попахивал… И у Васи потом волдыри по тилу пишли.
Этот бабушкин рассказ я долго вспоминал. Примеривал на себя. Мальчишка моих лет, любящий бегать, кричать, жить, целый месяц – тише воды, ниже травы – по сути в дерьме просидел. Чтобы спастись, чтобы выжить. Ах, Василий Григорьевич, теперь - то я понимаю однажды оброненную тобой фразу в разговоре о войне: «Этого дерьма на всю жизнь наелся…»
2.
Лев Толстой в романе «Война и мир» назвал войну самым большим несчастьем, которое придумал для себя человек. Классик, понятно, прав. Война убивает людей, расщепляет, калечит их судьбы, не говоря уже об утрате всего ощутимого, нужного для пропитания, нажитого за мирные годы. И не только в материальном плане. Сами души людские опустошаются до такой степени, что, казалось бы, не подлежат восстановлению.
Впрочем, об этом легко рассуждать нам, семидесятилетним счастливчикам. Мы даже не дети войны. За всю долгую историю России мы наверняка первое поколение, не знавшее настоящей войны, если не считать так называемых локальных конфликтов и горбачёвско - ельцинского разрушения великой страны. Наши отцы и матери, солдаты бессмертного полка, жизнью своей, своими изломанными судьбами завоевали мирную жизнь для целого поколения. И когда в день 70-летия Великой Победы, после «времён очаковских и покоренья Крыма» на столичные и провинциальные улицы огромной державы вышел «Бессмертный полк», не радоваться этому было невозможно. Наш ответ на риторическое евтушенковское «Хотят ли русские войны?» однозначен и понятен каждому в современной России – от мала до велика. И я не хочу вдаваться в рассуждения о том, как не допустить новой войны народу, который сегодня в собственной стране озабочен и вопиющей социальной несправедливостью, и казнокрадством, и разгильдяйством – всем, что так мешает людскому сплочению, подлинно народному единству перед лицом какой - либо новой угрозы. При всём моём журналистском интересе к внутренней и внешней политике я пишу эти воспоминания для себя, для своей семьи и для предполагаемого читателя в иной ипостаси – назову её личной, душевной. И вспомнив толстовский роман «Война и мир», вернусь к собственной семейной саге. Каждая человеческая жизнь, даже самая заурядная на первый взгляд, куда богаче любого романа по своим сюжетным линиям и краскам. Эта жизнь движется и возрождается не ненавистью, не войной, а любовью. Тут мне спешит в помощники любимый поэт Давид Самойлов. Перечитываю его «Сороковые, роковые…»:
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
А так и совпало. Как у моих отца и матери. Хотя родились они и выросли очень далеко друг от друга, а впервые встретились на вовсе чужой земле. Мои предтечи пересеклись, совпали в единой точке, как параллельные линии в неэвклидовой геометрии. И я продолжаю своё повествование с линии жизни Анны Григорьевны Ольховой.
3.
Она родилась в июле 1925 года в селе Бирюково. В 1942 году село оккупировали фашистские войска, и Аню Ольхову, ещё не достигшую семнадцати лет и едва закончившую восемь классов, угнали на работы в Германию вместе с несколькими одноклассницами. Причём списки на отправку девушек готовил их бывший школьный учитель истории, который при немцах стал служить им – пошёл в полицаи. Юных полонянок долго везли в товарных вагонах неизвестно куда, поезд остановился уже где-то в Германии – кругом была немецкая речь. Загнали в лагерь за колючую проволоку, объяснили – отсюда будут распределять на работы.
Крыша над головой здесь была только для охранников. А девчонки ночевали под открытым небом, раз в сутки их кормили баландой – в миске плавал маленький кусочек брюквы. Так сидели почти месяц, а потом отчаянные дивчины – вчерашние одноклассницы Аня, Вера и Галя решили бежать. Где-то нашли ржавые ножницы: перекусили колючую проволоку и пустились глубокой ночью в путь. Прошли километров пять, и тут одна из подруг, Галя, решила вернуться. Больше её ни Аня, ни Вера никогда не видели… Добравшись до станции, две девчонки забрались в какой-то товарняк, который, как они считали, шёл на восток, то есть ближе к дому – к России, к Украине. Немецкие часовые обнаружили и высадили беглянок уже в Польше. Девчонки стали объяснять, что отстали от своего эшелона и по ошибке сели в другой – идущий в другую сторону. Им почему-то поверили. Тогда Аня Ольхова пустилась на «конспирацию» - назвала себя Галей, именем пропавшей в пути подруги. Так и осталась Галей на всю жизнь – по крайней мере для всех, кто её знал, хотя в паспорте было имя другое – Анна…
В это время Гитлер успел переселить в захваченную им Польшу «фольксдойч» - этнических немцев, живших за пределами Германии – к примеру, в Чехии, Румынии. Одним из таких «фольксдойч» и оказался новый хозяин Гали (Ани) Ольховой. Он считался бауэром – помещиком, получил в Польше скот, реквизированный у местных жителей, земельный надел, однако богатым не стал. Продукты, которые производил с помощью русских батрачек всем своим семейством (и фрау, и её дети постарше тоже работали в поле и на скотном дворе), забирал вермахт (немецкая армия). Молока, хлеба и прочего оставляли только на пропитание. Однако житьё, по словам Ани Ольховой, было сносным. Хозяева её не обижали. Сначала она ухаживала за свиньями, а потом за расторопность, домовитость её сделали прислугой и кухаркой в доме и даже сажали с собой за стол. Раз в месяц девушек отпускали на соседний хутор, где на такого же бауэра батрачили пленные французские парни – это, конечно, был маленький праздник, танцы под аккордеон…
Осенью 1944 года загремела канонада – наступали советские войска. Бауэр и его семейство собрали свой скарб в кибитки, чтобы бежать на запад, уговаривали Галю (Аню) ехать с ними: большевики, убеждала девчонку фрау, настоящие дьяволы – Геббельс говорит, что у них даже рога и хвосты есть. «У моего папы ничего такого не было, - отвечала Галя, - а он ведь тоже большевик…» - « Ну что ж, оставайся..» Как вспоминала бывшая пленница, ей очень повезло: не успели хозяйские кибитки отъехать от хутора километра два, как налетела наша авиация и всех бежавших разбомбили. А Галя – Аня – Ольхова пересидев сутки в погребе, встретила Красную Армию, а в ней офицера, который стал потом её мужем и моим отцом. Так пересеклись на войне, совпали в единой точке две параллельные линии. Вопреки эвклидовой геометрии, вопреки логике жизни. Впрочем, есть ли она, эта логика.
4.
Не буду мудрствовать. Пора перейти к линии жизни отца – Абрама Ильича Рапопорта. Он был почти на полгода младше мамы, однако к 22 июня 1941 года успел закончить девять классов. Учился в Вышневолоцкой средней школе № 2 (теперь она называется гимназией). О его детских и юношеских пристрастиях знаю мало. Как – то папа обмолвился, что любил мальчишкой порыбачить у Цнинского канала, на водохранилище, а ещё ходил в школьный фотокружок. Первое увлечение во взрослых заботах о семье невесть куда улетучилось, а второе – фотографией – привело к избранной в жизни профессии.
Я уже вспоминал в этой книжке, что мой дед Илья Борисович Рапопорт, несмотря на солидный возраст, отправился воевать с немцем в числе первых. Уходя, наказал жене: бери всех наших троих детишек в охапку – и беги в эвакуацию. Мудрый был человек. Читал газеты, слушал радио и хорошо уже знал, что гитлеровцы на захваченных советских землях в первую очередь «пускают в расход» комиссаров и (правильно!) евреев.
Бережёного Бог бережёт. Весной 1942 года, когда наши войска уже освободили от немцев Калинин, и поезда, хоть и в обход Москвы, снова пошли на восток, за Волгу, бабушка с детьми сумела эвакуироваться. За домом взялась приглядеть чудесная наша соседка, тётя Клава Савельева, которую я хорошо знал в свои детские годы. А вот другая соседка, Вера Алексеевна (фамилию по понятным причинам называть не хочу), только подлила масла в огонь: «Убегаете жиды проклятые? Ну-ну. Немец вас всё равно достанет…» Об этой коронной фразе при мне, уже юноше, взрослые вспоминали после войны только единожды, сразу сделав вид, что и не было сказанного. Но я крепко её запомнил, связав с уже знакомым маминым воспоминанием об учителе из Бирюкова, отправлявшем своих вчерашних учениц полонянками в «третий рейх». Что ж коллаборационисты, предатели были всегда в разных странах и, увы, ещё будут. Они пострашнее захватчиков, поскольку и речи, и дела свои сообразуют с самым низменным – шкурными интересами. И «межнациональные отношения» здесь порой ни при чём: евреев в гетто так же легко отправить, как и девчонку-славянку в фашистский лагерь для «остарбайтеров»…
Прости, дорогой читатель, за новое «журналистское» отступление от семейного повествования. Возвращаюсь в 1942 год, в Куйбышевскую (ныне Самарскую) область, куда приехала тогда моя бабушка со своими чадами. В Кинель-Черкасском районе, как она вспоминала, колхозный люд встречал беженцев хорошо, «с пониманием», хотя местным и самим порой было есть нечего. Бабушка сразу пошла на работу, её назначили бригадиром свекловодческой бригады. На колхозных полях вместе со взрослыми трудились ребятишки – и местные, и эвакуированные. Однако Абраше Рапопорту, как всем в ту пору семнадцатилетним, не терпелось попасть на фронт. И однажды ночью с новым деревенским приятелем – одногодком он убежал в пехотное училище, благо было оно всего за 60 километров от колхоза. Оттуда сразу письмецо прислал: не ругай мама… Мама и не ругала. Как-то отпросилась у председателя колхоза на пару дней и эти шестьдесят километров осилила пешком в лаптях («ох и удобная обувь была!»- вспоминала). Отнесла блудному сыну гостинцы – несколько варёных картошек и свёколок. И расстались на несколько лет – к счастью, не навсегда.
Абрам Рапопорт закончил военное училище через полгода и в погонах младшего лейтенанта поехал на фронт. В первом же его бою в Белоруссии фашисты убили командира роты. А командир первого взвода (как вы уже поняли, мой будущий отец) восемнадцати лет от роду был назначен командовать стрелковой ротой. Впоследствии эта рота первой вошла в фольфарк под Гдыней (ныне этот польский город Гданьском именуется), где вынужденно батрачили советские девушки, и Галя (Аня) Ольхова в их числе. Молодые люди познакомились друг с другом и с тех пор не расставались. Анна Ольхова стала вольнонаёмной в Советской армии, работала на воинской почте. А свадьба у моих родителей была ни где-нибудь, а в самой Вене – да-да, на прекрасном голубом Дунае, в городе Моцарта и Штрауса. Правда,
венский вальс для молодых не звучал, скорее «Катюшу» да лихие частушки пела вся рота под солдатскую гармошку, но от этого (с чем наверняка согласится и мой читатель) свадьба не стала менее романтичной…
5.
Отец войну вспоминать не любил, хотя успел повоевать изрядно, дважды был ранен, второй раз – тяжело. В госпитале, где вытащили пулю из ноги, пролежал два месяца, но рана ныла и мучила до самой смерти…Были у ротного командира боевые медали и орден Отечественной войны. Однажды, набравшись смелости, спросил его за рюмкой: кричал ли он, поднимая пехотинцев в атаку, «За Родину, за Сталина!»?
- Может, кто-то и кричал, - ответил он, подымив папироской, - на то они и политруки, а мы, пехота, из окопа чаще с матерком выскакивали: знаешь, он – матерок – лучшая защита от пули…
Замечу, что крепкого чёрного словца в мирной жизни (по крайней мере дома, в семье) я от отца никогда не слышал.
6.
Пора бы ставить точку в этой главе. Однако нужны существенные дополнения. Тоже личного порядка. Мой отец покинул бренный мир, когда ему ещё и шестидесяти не было. Мама пережила обретённого на войне спутника жизни на восемнадцать лет. Эти годы вдовства, старческих болезней пришлись на жуткие годы для всей нашей страны, которую они, мои бессмертные, в своё время защищали своими жизнями, на 90-е годы двадцатого века, когда в распадающейся на глазах стране, некогда победившей гитлеровский «мировой порядок», порядка не стало никакого. Более того, чёрное стали называть белым, белое – чёрным, а самих победителей – совками. И какое же это счастье, что именно в те годы мама успела рассказать и свою личную, и нашу семейную историю не только мне, но и внучкам своим – Ольге и Инне. Они кое-что записывали с её слов.
Инна бабушкины воспоминания сначала облекла в форму школьного сочинения, а потом, уже будучи взрослой и работая в газете, даже напечатала статью «Бабушкина история». Так что должен прощения просить у своей дочки за возможный плагиат. Впрочем, я скорее соавтор и с ней, и со старшей дочерью Ольгой, и с женой Татьяной. В канун 70-летия Великой Победы мы вместе занесли в компьютер и на бумагу семейные воспоминания о поколении победителей. И в бессмертном полку они теперь снова вместе – наши родичи, наши предтечи.
Вот отец моей «половинки» Дмитрий Александрович Образцов. Он родился в 1922 году и в Красную армию был призван ещё в 1940-м, успел повоевать на финской войне, а Великую Отечественную прошёл «от сих и до сих». Участвовал в битве под Сталинградом, где погибли почти все его однополчане, трижды был ранен, но остался жив и дошёл до Берлина, оставив победный автограф на Рейхстаге. Дмитрий Образцов и в мирное время ходил в погонах – работал в войсках МВД и в милиции – боролся с преступностью, наводил порядок на родной земле.
А вот и мама моей Татьяны – Любовь Михайловна Образцова (в девичестве Шишкова). Ей было всего шестнадцать лет, когда от фашистов освободили областной центр – город Калинин, а она уже работала там в речном порту – матросом небольшого пароходика, который перевозил по Волге раненых в госпиталя…
Словом, есть о чём рассказать – и не только в нашей семье – детям, внукам, правнукам. Рассказать, записать, осмыслить. Новым поколениям оставить. Мне очень хочется верить, что времена беспамятства, всеобщего угара, забвения и даже осуждения прошлого ушли с русской земли и больше не вернутся. Нет ничего паскудней оплёвывания могил – сам при жизни мертвецом становишься или, как это нынче принято говорить, - потребителем…
На этом ставлю точку, продолжая однако листать наш семейный – с фотографиями и текстом – альбом и думая о «чувстве семьи единой», которое начинается с таких альбомов и делает место рождения Родиной.
***
Отец моей мамы Григорий Ольхов
без вести пропал под Ростовом.
Душа его, смертных не зная грехов,
стоит перед вышним престолом.
А грех был один - что без вести пропал,
крестом никому не обязан:
солдата с винтовкою танк затоптал,
по озими стылой размазал.
Нет холмика, чтобы затеплить свечу
тебе, мой без вести пропавший.
И ночью на выручку к деду лечу
я, ныне в роду нашем старший.
Мы вместе ползём, задыхаясь, в дыму,
хватаем за локоть Победу.
Но эта Победа видна не ему,
видна только мне, а не деду…
2015
***
Мне батя мой нашёл на фронте мать,
чтоб никогда уже не воевать,
чтобы любить, гнездо своё лепить,
чтоб из Тверцы живой воды испить.
С женой и сыном он пришёл домой,
но мучился от раны штыковой
и раньше срока справился туда,
где не бежит и мёртвая вода.
Ушла за ним и мамка на погост.
Как много здесь красноармейских звёзд!
Они не в моде, алые, давно,
а я смотры кошмарное кино,
как снова бомбы лупят мой Донбасс,
как снова наступает смертный час
для тихой горькой родины моей,
как рвут на клочья женщин и детей.
Я к холмику отцовскому бреду.
Как, спрашиваю, отвести беду?
Я взял бы, батя, в руки автомат,
но и с водой живою староват.
- А внуки для чего стоят с тобой,
они готовы на последний бой?
- Не для войны я поднимал твой род.
- Чей род, она, война, и разберёт…
Смотрю я на встревоженных внучат,
как не по-детски деточки молчат
и говорят:
- Пока горит звезда,
пока во фляжках талая вода,
а на груди георгиевский бант,
Русь не сдадим, товарищ лейтенант!
2015
АВТОГРАФ ГАГАРИНА
Бывают в жизни минуты, после которых только и остаётся развести руками: это судьба. Разбирая недавно личные архивы, обнаружил в них материалы, которые считал безвозвратно утраченными: любительский фотоснимок и, самое главное, автограф первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Всю жизнь памятуя, где, когда и при каких обстоятельствах получил эту реликвию, я очень хорошо помнил и другое: как потерял, а точней - сам от неё отказался: подклеил листок с гагаринским автографом к своей машинописной заметке – в школьную стенгазету. Получается, что тогда я, редактор стенгазеты, вовремя опомнился и, когда заметку прочитали, забрал её вместе с автографом себе домой…
По такому поводу спустя пятьдесят с лишком лет можно и поиронизировать: ох, нехорошо ты поступил, Боря Рапопорт! Вопреки своим же непреложным принципам – бескорыстия, коллективизма. Вспомни хотя бы свою поэтическую подборку во всесоюзном журнале «Смена». Эту подборку в 1964 году открывало стихотворение «Борька Лагин» - ты восхищался игрой юного баяниста – своего тёзки и тут же, со всей комсомольской прямотой, осуждал его, поскольку «Борька в лагере баяном заколачивал рубли!». Ох, уж эти нехорошие Борьки! Теперь, на бывшей советской земле они уже лет двадцать пять – образцы доблести. И не стоило, ох, не стоило тебе, юному стихотворцу, сызмальства осуждать умение «заколачивать рубли»…
Может и не стоило, коли вспомнить, что и сам с детства «заколачивал» гонорары за свои стихи и заметки в прессе. И вообще «без денег жить нельзя на свете, нет!» Конечно, нельзя. Но когда сегодня на каждом углу слышишь одно и то же – «мани-мани!» - грустно почему-то становится. Получается, что и сам ты жизнь прожил зря, не заимев кругленького банковского счёта. Больше того, начинаешь почему-то думать, сколько же идейные советские скупердяи заплатили Гагарину за его суперрисковый – самый первый – полёт в космос?
Однако у всякой иронии есть предел. Тем более, что тебе, мой читатель (тоже наверняка не богатенькому Буратино) такая ирония явно не по душе. Так что вернёмся к гагаринскому автографу, который, как ты уже наверняка понял, принадлежит мне по праву, и обратимся к 4-5 апреля 1964 года. В эти весенние дни в моём родном Вышнем Волочке побывал человек, имя которого навечно вписано в историю землян.
Об этом волнующем событии в местной прессе вспоминали многие, в том числе и автор этих строк – на страницах газет «Спировские известия», «Земля вышневолоцкая», «Тверская жизнь».
Самым подробным образом описал приезд космонавта в «северную Венецию» в очерке «Рассказы о земном человеке» мой безвременно ушедший из жизни друг, журналист и краевед Рудий Иванович Матюнин – очерк опубликован в его книге «Тверской посох», фрагменты очерка печатались также в газете «Древний Волок». Потому повторяться не буду. Напомню лишь, что в Вышний Волочёк Юрия Алексеевича Гагарина «заманила» знатная вышневолоцкая текстильщица Герой Социалистического труда Валентина Ивановна Гаганова. Правда, встретились они только в 1962 году на ВДНХ (ныне ВВЦ), через год после полёта Юрия Алексеевича в космос. Но это короткое знакомство сделало их закадычными друзьями. По-дружески и заехал космонавт в наши края.
А теперь о том, как у меня оказался автограф героя космоса. Опять же благодаря Валентине Ивановне Гагановой. Именно она помогла тогдашнему десятикласснику, руководителю городского комсомольского штаба школьников, попасть на встречу с Юрием Гагариным, устроенную в Вышневолоцком драмтеатре в качестве «пятого городского слёта ударников и коллективов коммунистического труда». Хорошо зная меня как юного корреспондента местных газет и начинающего поэта, Гаганова сразу предупредила: приглашение отработаешь в редколлегии слёта! Я взял с собой не только «пишущие предметы», но и старенький фотоаппарат «Смена» – уже на подходе к театру удалось сделать снимок космонавта «вблизи» (правда, качество фото, как видит читатель, хромает). А свой автограф космонавт оставил на моём «мандате», переданном для этой цели в президиум слёта через Валентину Ивановну.
… «Отрабатывал» я на этом слёте вдохновенно. Уже в первом перерыве в фойе театра вывесили стенгазету, включившую и мой экспромт: «Вышний Волочёк в улыбках юных, лица звонкой радостью расцвечены. О труде нам говорят с трибуны будущего славные разведчики. Их у нас немало, честных, смелых, тех, что за работу взялись круто. И любое по плечу им дело, дорога им каждая минута. Потому-то мы так гостю рады, потому весь город благодарен вам, глава космической бригады Юрий Алексеевич Гагарин! Потому мы и прославим заново тех великих тружеников ряд, где они, Гагарин и Гаганова, средь героев Родины стоят!»
Наивно, слишком громогласно и риторично? Согласен. Но в этих строчках – ни с чем не сравнимое дыхание юности, дух того времени, которое при всех своих минусах рождало настоящих героев (в отличие от некоторых нынешних «звёзд»), времени, оставившего мне, моим детям и внукам, дар бесценный – автограф Юрия Гагарина…
БОРЬКА ЛАГИН
Там, где расплескались флаги
На озёрном на ветру,
Борька Лагин
Сонный лагерь
Будоражил поутру.
Высыпали на зарядку
Под баян и птичий свист.
Борька парень был занятный
И отличный баянист.
Он наяривал, как дьявол,
Свесив русый чуб к плечу,
И подмигивал нам:
Я мол,
Всё играю, что хочу…
Он, ровесник наш, старался,
Основательно потел
И свистел, и улыбался,
И иного не хотел.
Только маршам этим рьяным
Мы на удочку не шли:
Борька в лагере
Баяном
Заколачивал рубли.
1964
МУСЛИМ, СЫН АЙШЕТ, УЧЕНИК ВАЛЕНТИНЫ
1.
Слава Богу, его имя даже в современной России, продолжающей страдать амнезией, пока не надо никому представлять. В стране, лет двадцать тому назад просто-таки обалдевшей от липовой медийной «звёздности» безголосых, его голос – настоящий, ни с чем и ни с кем не сравнимый – ещё звучит по радио, всплывает в Интернете. И какое же это счастье – видеть порой его самого – высокого, статного, мужественного – на телеэкране, наслаждаться не только голосом, но и подлинным артистизмом то французского Фигаро, то русского мужика, который «судака тащит…»
Не сомневаюсь, что Муслим Магомаев хорошо знает, что это такое – жизнь после смерти. Он уже вошёл в вечность, так же, как Карузо и Козловский, Лемешев и Марио Ланца. А маленький Вышний Волочёк всегда будет гордиться тем, что он с великим певцом – на короткой ноге, гордиться справедливо, без грана какой-либо хлестаковщины. Ибо родиной магомаевского талантастали не только Баку и Москва, но и наш провинциальный русский город, почитающий своё родство с великим вокалистом его барельефным изображением на здании детской школы искусств. Стоит это здание на главном Казанском проспекте, насвоего рода визитной карточке города. Хотя, по совести говоря, барельеф Магомаева должен был бы появиться в другом месте – на нынешней Ванчаковой (ранее Первомайской) линии. Именно там, в старинном двухэтажном купеческом особняке, где ныне обосновались кафе с рестораном, некогда с утра и до вечера звучали звонкие голоса, скрипичные переливы, фортепианные пассажи. Именно здесь располагалась детская музыкальная школа, в которую ходил совсем ещё маленький Муслим, где давала ему первые уроки музыки Валентина Михайловна Шульгина, где за год под её опекой он сумел освоить программу двух классов.
«Это была замечательная женщина – мудрый, терпеливый педагог. Кроме школы она работала в городском драмтеатре музыкальным оформителем, подбирала и обрабатывала музыку для спектаклей. Ещё Валентина Михайловна руководила хором в каком-то учебном заведении... То есть была она не только человеком щедрой души, но и щедро одарённым», – такую оценку В. М. Шульгиной даёт в книге «Живут во мне воспоминания» сам Муслим Магомаев. А поскольку его учительница, по авторскому замечанию, ещё и «работала в городском драмтеатре», то позвольте мне, автору иных воспоминаний, воскресить для читателей и другое имя – Андрея Евграфовича Волховского. И Шульгина, и Волховской уже появлялись в этой книге – среди тех, кто оказался в Вышнем Волочке, меж двух столиц явно не по своей воле. Не буду гадать, в чём они согрешили перед власть имущими и за что были сосланы – вчерашняя ленинградка Шульгина и в недавнем прошлом начинающий актёр Московского художественного академического театра Волховской. С младых ногтей относился к ним с огромным пиететом. Очень простые в повседневном общении и со взрослыми, и с детьми, они, по-настоящему интеллигентные люди ещё чеховской закваски, никогда не бравировали ни эрудицией своей, ни талантом.
С Волховским впервые познакомился на дне рождения его дочки, с которой только - только сел вместе за парту в шестой средней школе. «Первоклассный кавалер!» - пошутил Андрей Евграфович в адрес первоклассника, явившегося на семейное торжество с огромным букетом цветов с бабушкиного огорода. Общежитие артистов, куда меня пригласили, так же, как и мой дом, глядело фасадом на набережную Цнинского канала. И родная школа рядышком. Проходя теперь мимо бывшего школьного здания с пустыми глазницами окон, рухнувшей крышей и мимо памятного актёрского общежития, превратившегося в некий лабаз, я уже почему-то не замечаю всего этого безобразия, а вспоминаю весёлую беготню у школы на летних переменках, а ещё большой, прямо – таки сказочный торт с разноцветным кремом и сладкий пузырящийся лимонад – тогда на дне рождения у Волховских впервые всё это попробовал…
Не исключаю, что и у Муслима Магомаева могли возникнуть подобные воспоминания. Ведь он старше меня всего на пять лет и учился в той же самой – в шестой средней школе. Правда, пересечься с ним мы никоим образом тогда не могли: для девятилетнего Муслима, когда он впервые приехал в Волочёк, я, четырёхлетний, был сущей малявкой, и приятели, понятно, были у него другие – сообразно возрасту. Однако его воспоминания о Вышнем Волочке образца 1951 года – это воспоминания и мои! Я читаю их с чувством сердечного узнавания и сопереживания: «Волочёк встретил нас лютым холодом. Густели синие сумерки, люди кутались в воротники, шали, над ними вился пар, а мне было весело: под ногами скрипел снег, который я никогда не видел. Ехали мы в город, а приехали в большую деревню с потемневшими избами, с оконцами, заложенными ватой, с горшками герани на подоконниках. Мама, оставив меня одного, убежала в театр…»
Вот ещё одна точка соприкосновения. Мама Муслима актриса АйшетКинжалова (это её творческий псевдоним) «убежала в театр», на сцене которого работала вместе с актёром и режиссёром Андреем ЕвграфовичемВолховскими заведующей музыкальной частью Валентиной Михайловной Шульгиной. А они оба – наши общие с Муслимом знакомцы и наставники.
Я не прошу у тебя, читатель, прощения за некое тщеславие. Потому что в детстве о нём просто не думают. И мальчишек, кем бы они потом ни стали, всегда тянет к себе сказочное, заповедное волшебство музыки и действа. «Когда Валентина Михайловна оформляла музыкальный спектакль «Анджело» по Пушкину, – вспоминает М.Магомаев, – я сидел в оркестровой яме рядом с роялем, на котором она играла. Сидел и млел от счастья: оттого, что люблю музыку, люблю театр с его особым пыльно-сладким запахом, с шорохами и суетой за кулисами, с долгими репетициями… Мой интерес к театру вскоре вылился в то, что я увлёк нескольких ребят идеей организовать кукольный спектакль…»
В оркестровой яме, в отличие от Муслима, я не сидел и кукловодом не стал. Однако в юные годы тоже примерял на себя маску Мельпомены, играя в уморительных, как мне тогда казалось, сценках – в качестве участника школьной команды КВН. Клуб весёлых и находчивых в столице только вышел на телеэкраны. И у нас в Вышнем Волочке стали разворачиваться настоящие кавээновские баталии между школами. Проходили они обычно в Доме пионеров. А с настоящим театром подружился сначала как юный корреспондент городской газеты. Стал ходить на каждую местную премьеру и сочинять для «Вышневолоцкой правды» рецензии на новые постановки. По младости лет критик, понятно, был никудышный. Сочинял скорее короткие рассказики об увиденном на сцене с перечислением главных героев пьес и актёрских фамилий. Но режиссёру Волховскому были, видимо, дороги и такие газетные отчёты о работе театра. Потому на каждый спектакль я ходил бесплатно и, накропав очередную «рецензию», обязательно нёс её на проверку Андрею Евграфовичу. Он не вымарывал мои благоглупости, просто иногда говорил: «А вот эта фраза у тебя, Боря, о ком – об актёре или герое?» Постепенно, говоря театральным языком, я стал вживаться в образ рецензента и однажды получил режиссёрскую похвалу на заметку о постановке шиллеровской «Марии Стюарт». До сих пор помню этот спектакль с актрисой Жуковской в главной роли. Наверняка таким ярким и образным было это сценическое действо, что даже критик-неофит не мог рассказать о нём скучно и плохо. По крайней мере, Волховской мою рецензию впервые похвалил.
Постепенно наши отношения становились всё более доверительными. И много лет спустя, в конце 80-х годов, когда вся читающая публика сполна насладилась ранее запретным романом Михаила Булакова «Мастер и Маргарита», Андрей Евграфович рассказал мне, почему в довоенные ещё годы был выслан из Москвы. Ему не простили частое появление в «нехорошей квартире». Сначала он ходил к автору романа «Мастер и Маргарита» по заданию театра, носил записки от режиссёра, пытавшегося поставить одну из пьес Булгакова. Пьесу запретили, а молодой актёр продолжал навещать её автора – уже как добрый знакомый. И добром для знакомого это, понятно, не кончилось: его отправили «на 101-й километр». Скажу честно, долго не верил этим рассказам Волховского. До тех пор, пока он не показал мне письмо от самого Михаила Булгакова, полученное моим собеседником уже в Вышнем Волочке. Показал, но копию снять не дал. Где оно теперь, это письмо? Ведь рукописи не горят, не правда ли?
2.
Нескладно я как-то подхожу к главному герою этого очерка – к Муслиму Магомаеву. Но разве можно пройти мимо людей, к которым по сути и приезжал он в Вышний Волочёк летом 1965 года? И прежде, чем перейти к встрече с героем, позвольте мне ещё несколько слов о его первой учительнице музыке – о Валентине Михайловне Шульгиной. Невысокая женщина, полноватая, с тяжёлым (возможно астматическим дыханием), она была чрезвычайно подвижна, мобильна. Буквально всё успевала. И весьма следила за собой. Любила хорошую косметику и духи. Где в годы всеобщего дефицита доставала это, трудно сказать, однако всегда была «при параде». Человек искусства, она любила поэзию. Потому, наверное, и заинтересовал её начинающий стихотворец из шестой средней школы – той же, где некогда учился Муслим. Валентина Михайловна руководила нашим школьным хором и после очередной репетиции в актовом зале подошла ко мне: «Мы много поём, и все песни хорошие. Но почему бы нам, Боря, не сочинить свою, о нашей школе? Представь, как это здорово – выйти с такой песней на городской смотр!»
Свою школу я очень любил. Вдохновился быстро. И на следующую репетицию принёс Валентине Михайловне «Гимн средней школы №6»:
За серой дымкой частокола
канала тихая вода,
а на пригорке наша школа,
мы каждый день идём сюда.
Припев:
Здравствуй, школа, песня детства,
я тебя опять пою,
снова я хочу влядеться
в душу ясную твою.
Мы в жизнь идём навстречу ветру
и сможем всюду мы пронесть,
как чистоту мечты заветной,
честь нашей школы номер шесть.
Был и ещё куплет, я его не помню – такой же наверняка плохой, как и предыдущие. Но Валентине Михайловне понравилось. Она сочинила изумительную музыку – не бравурную, вопреки тексту, а задумчивую, лиричную. Через неделю всем хором мы песню уже разучивали, а месяц спустя с блеском выступили на общегородском смотре – ведь ни у одной вышневолоцкой школы не было своего гимна!
– Мы теперь, Боря, с тобой соавторы. Может, ещё не одну песню сочиним…
Не сочинили. Но стали друзьями, единомышленниками, несмотря на огромную разницу в годах, в житейском опыте, в знаниях. Я начал бывать у неё дома на улице Егорова – Шульгина пригласила к себе в гости «на книги». У неё была небольшая, но прямо-таки уникальная библиотека, многие тома ещё дореволюционные, с позолоченными корешками. Она позволяла мне часами рыться в книгах, сама принимая в этом участие, рассказывая, где и по какому случаю тот или иной том приобрела. Ничего подобного в общедоступных библиотеках я не видел, далеко не всё из читанного и виденного в маленькой комнатке учительницы музыки было доступно детскому пониманию.Но чувство глубокого уважения, благоговения к хозяйке этой комнатки, к своему соавтору сохранил на всю жизнь. И сегодня вместе с Муслимом Магомаевым готов подписаться под уже опубликованным письмом самого великого ученика Валентины Михайловны: «Я не из тех, кто забывает любимую учительницу и любимого человека. Поверьте, я всегда помню о том, что Вы для меня сделали…»
Увы, не подпишусь. Ведь признания в любви не бывают коллективными.
3.
Этот июльский день 1965 года пролетел, как единый миг. Уже ни числа не помню, ни многих тех впечатлений. По горячим следам надо было записывать, но молодость беспечна... Я уже закончил школу, готовился к поступлению на факультет журналистики МГУ и работал в районной газете «Ленинец» у самого своего задушевного редактора Нины Петровны Цветковой. Утром бежал на работу по Ленинскому (ныне Казанскому) проспекту и встретил Шульгину.
– Боря приходи сегодня к часу дня в Дом учителя, Муслима послушаешь, я всё-таки зазвала его к нам…
– Не может быть!
К часу дня сломя голову бежал на Первомайскую улицу (нынешнюю Ванчакову линию) к Дому учителя, Дому работников просвещения – профессиональному учительскому клубу с библиотекой. Книгохранилище размещалось на первом этаже, а на втором располагались кабинеты и небольшой актовый зал со сценой, где устраивались совещания педагогов, а иногда и концерты. Сегодня, когда само «просвещение» в нашем лексиконе заменено «образовательными услугами», только моё поколение и помнит о том Доме учителя, помещения которого в лихие девяностые прочно заняли магазинчики и офисы. А тогда… Тогда у парадного входа стоял горбатый «Запорожец» тёмнозелёного цвета и дежурил милиционер в белом кителе. Толпа горожан, уже узнавших по сарафанному радио о дорогом госте, прибывала и прибывала.
– Увидите вы его ещё, увидите, – успокаивал земляков милиционер, – а может, и услышите…
Прорвавшись через толпу, я козырнул редакционным удостоверением, сказал стражу порядка, кем приглашён, и он открыл двери. На втором этаже в актовом зале сразу увидел Магомаева. Высокий, подтянутый, черноволосый, в чёрных брюках и белой рубашке с распахнутым воротом и закатанными рукавами, в остроносых лакированных туфлях, он расхаживал среди многочисленных поклонниц (в основном это были знакомые мне учителя, библиотекари, артисты). Смеялся, давал автографы. Когда положил карандаш на рояль, Валентина Михайловна подвела и меня к дорогому гостю, представила:
– Это мой соавтор, юный поэт, мы с ним вместе песню сочинили. А ещё, Муслим, почти твой однокашник, тоже в шестой школе учился…
– Давай лапу, однокашник, - улыбнулся кумир и протянул руку. Потом сел за рояль. И – началось. Такого больше я не видел и не слышал нигде. Одно дело слушать и видеть великого вокалиста из кресла концертного зала или по телевизору, совсем другое – рядом с ним. Вот он, перед тобой, без всякого микрофона, «живьём». И ты не только слушаешь – ты словно поёшь вместе с ним. Перевоплощаясь из образа в образ. Из весёлого хитреца Фигаро в сурового, словно наступающего на клавиши рояля итальянского партизана – «Белла чао…». А потом уже «свадьба пела и плясала», и ты пел и плясал с ней вместе, а после разудало вышагивал «вдоль по Питерской»...
Почти час шёл этот необыкновенный концерт. Окна, из-за жары, были широко распахнуты. Голос Муслима слышал весь Вышний Волочёк. Столько народу вместе в нашем маленьком городе можно было видеть только в Октябрьские праздники. Людские потоки заполонили прилегающую к Дому учителя улицу, даже Ленинский (теперь Венециановский) сквер. И при этом никто не молотил друг друга локтями, пытаясь протиснуться поближе к благословенному дому, не орал и тем более не дрался. Всю суету человеческую разом отключил, запретил этот льющийся из высоких окон человеческий голос высочайшей пробы. Голос Муслима Магомаева.
4.
Что было в тот день потом? Потом совершенно неожиданно в голове завертелась уже читанная «Божественная комедия»: я как бы превратился в Вергилия – спутника Данте, то бишь Муслима Магомаева, внезапно став его проводником по задворкам вышневолоцкого детства.
– Боря, прошу тебя вывести Муслима через чёрный ход и провести дворами к Волховским, - сказала Валентина Михайловна. – Я приду чуть позже – когда окна закроем, приберёмся, и толпа внизу рассосётся…
Мы спустились вдвоём через чёрный ход во двор.
– Закурим? – «Данте» достал из кармана пачку сигарет.
– Спасибо, не курю ещё.
– Ну и не начинай.
Лет через пять я «начал». В армии. Когда, закончив журфак, проходил действительную годичную службу в батальоне аэродромного обслуживания при лётном училище в Краснодарском крае. В караулке, перед выходом на пост, мы, часовые, отчаянно смолили привычную «Приму». Тут-то я и вспомнил, какими шикарными заморскими сигаретами угощал некогда Муслим Магомаев. Армейская братва, понятно, не верила, смеялась: «Ты бы хоть одну сигарету у Муслима или пустую пачку на память взял – да ещё и с автографом!»
Вот и сегодня спрашиваю себя: почему автографа не взял? Тогда, пятьдесят с лишним лет назад, и мысль такая в мальчишечью голову не приходила. Мы перепрыгивали с Муслимом какие-то пустые ящики, низкий штакетник, обходили мусорные баки, лужи. «Данте» что-то спросил о моих поэтических опытах и я восторженно повествовал, сколько лет пишу, где печатаюсь… Впрочем, хватило ума остановиться и задать спутнику ничего не значащий вопрос:
–А горбатый «Запорожец» у Дома учителя твой?
– Нет, одного московского приятеля. Он пошёл гулять по городу. Сегодня переночуем у Валентины Михайловны, она пригласила, а завтра с утра пораньше обратно, в Москву…
Так под лёгкий трёп и пришли к «тылам» Вышневолоцкого драматического театра, где жила, давно покинув старое общежитие, семья театрального режиссёра.
Квартирка на первом этаже в том крыле здания, где ныне разместились театральные кассы, произвела впечатление чего-то ненастоящего, невсамделишнего, слаженного на скорую руку. Перегородки между тремя маленькими комнатами – фанерные, наспех покрашенные тёмновишнёвой краской (другой, наверное, не нашлось у рабочих сцены) очень напоминали театральные декорации. Однако круглый стол в центре самой большой комнаты, накрытый крахмальной скатертью, уставленный закусками и графинчиками, был самым что ни на есть настоящим – для гостей. И яблоки в вазе были не из воска, и только-только был доставлен из пекарни большой круглый торт с кремом, увидев который я сразу вспомнил своё первое детское гостевание у Волховских…
Пришла Валентина Михайловна. Хозяева – и сам Андрей Евграфович, и его жена – милая, приветливая (кажется, она заведовала костюмерным цехом театра), и дочь, моя недавняя одноклассница – сразу пригласили за стол. Налили маленькие рюмашки-напёрстки коньяком и предложили поднять за творческие успехи дорогого гостя. Все знали, что Магомаев недавно вернулся со стажировки в прославленной миланской опере «Ла Скала» и жаждали услышать его рассказы и об этой стажировке, и об абсолютно сказочной, недоступной тогда для большинства наших граждан Италии. Однако Муслим начал говорить о … Вышнем Волочке. О том, что город заметно подрос – появились новые многоэтажки в центре. И при этом, слава Богу, цел – невредим старый деревянный дом с резными оконными наличниками на углу улиц Вагжанова и Карла Макса, дом, где жил со своей мамой Айшет девятилетний Муслим.
– Вы знаете, мы с Валентиной Михайловной утром и в шестой школе побывали, я даже за своей старой партой посидел…
И предался воспоминаниям. Заметил, что в Вышнем Волочке, он нынче оказался не во второй, а в третий раз. Приезжал сюда как-то на день, уже поступая в Московскую консерваторию, чтобы встретиться с мамой. Тогда у актрисы АйшетКинжаловой (напомню, что отец Муслима погиб на войне) была другая семья и работала она очень далеко и от Москвы, и от Волочка – в Барнауле. Но именно в Волочке, в нескольких часах езды от столицы, решили встретиться мать и сын, чтобы снова увидеть городок, который некогда так сблизил их после сиротского в общем- то детства Муслима…
Все слушали гостя, не перебивая. Наконец пришёл черёд Италии. Муслим вспомнил, как перед поездкой напутствовала студентов Московской консерватории сама Екатерина Фурцева, министр культуры (кстати, тоже связанная с Вышним Волочком – местом своего рождения и молодости). Рассказывал о друзьях, с кем вместе стажировался в «Ла Скала». Мне сразу запомнились имена Владимира Атлантова, Анатолия Соловьяненко и Николая Кондратюка. Запомнились ещё и потому, что впоследствии, как и Магомаев, они стали выдающимися певцами – подлинной гордостью отечественной оперы.
А ещё из той застолицы хорошо помню впечатления Магомаева о поездке в великий город – в Венецию и о знакомстве с РобертиноЛоретти. Молодёжь, конечно же, не знает Робертино. А в начале 60-х годов прошлого века в каждом доме страны Советов крутили пластинки с его песней «Джамайка», с его уникальным пронзительным мальчишеским голосом. И меня, помнится, очень удивило свидетельство Муслима, что в самой Италии РобертиноЛоретти тогда почти не знали, пока не прославился он на музыкальном фестивале Сан-Ремо…
Ну, вот, кажется, и всё, что сумел достать я из глубин памяти, из того – лета 1965-го – застолья в квартире Волховских. Впрочем, не всё. Свербит в мозгах, как иголка один анекдот услышанный от Муслима. Анекдот не слишком приличный, довольно солёный. Но так талантливо рассказывал его не только прекрасный певец, но и артист, что не могу удержаться и перескажу тебе, мой читатель, хотя и теряет анекдот свои краски, изюминку на бумаге.
Тогда, помню Муслим напыжился и представил себя важным генералом, которому пронырливый адъютант-поручик рассказывает: едет на телеге мужик и везёт дёрн, а навстречу ему баба везёт куриные яица. «И вот представьте себе, господин генерал, великолепную игру слов, баба говорит мужику: «дай дёрну за яйца!» Генералу так понравился анекдот, что он решил им блеснуть в Дворянском собрании: «Послушайте, господа. Едет мужик и везёт… что везёт, поручик? – Муку, господин генерал. – Да-да, муку. А навстречу баба, у неё в телеге… Что у неё, поручик? – Дрова. – Да-да, дрова. И баба говорит мужику: «Дай дёрну за яйца! Какая великолепная игра слов!»
Действительно, игра великолепная, но пора и её заканчивать. Под окнами Волховских уже сигналит горбатый «Запорожец»: Муслиму нужно отдохнуть. Тогда Валентина Михайловна и Андрей Евграфович уговорили-таки изумительного гостя по-настоящему порадовать провинциальный городок своим столичным талантом. Вечером он пел на берегу Цнинского канала в городском саду – в летнем театре. В той самой деревянной, раскрытой к зрителю раковине, где обычно выступали самодеятельные артисты, а также местные и приезжие стихотворцы - на традиционных в 60-70-е годы для Вышнего Волочка (да и для Москвы) Днях поэзии. Обычно вечером в горсад на танцы нужно было купить в кассе билет за десять копеек. Чтобы увидеть и услышать Магомаева, местная публика в тот тёплый летний вечер платила столько же, причём все деньги шли в доход горсаду. Народный певец пел для народа бесплатно. «Слушатели сидели и на лавочках, и на деревьях, и на заборе». Последнюю фразу я позаимствовал у самого Муслима Магомаева из книги его воспоминаний…
КОЛОКОЛА
Какая музыка была
с рассвета до рассвета:
зелёные колокола
раскачивало лето!
Цвело разноязычье крон,
и медный пень светился,
как будто весь
вселенский звон
в деревья обратился.
И как у грешных звонарей
от адовой работы,
взбухали жилы на коре
зеленоствольной роты.
Дымился, падал,
плавал звон,
как яблоко на блюдце.
И люди шли со всех сторон
в тишайшем многолюдстве,
ложились в пряную траву
и слушали с истомой,
и каждый слышал наяву
звук издавна искомый.
А те, кто жаждал тишины,
пастушеских идиллий, –
те были звону не нужны
и вдалеке бродили.
ФОНТАН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
1.
Ефрейтор Женя Зуб, родом из Харькова, окрестил это странное сооружение возле роты фонтаном дружбы народов. Настоящий такой фонтан стоял и стоит ещё на столичной ВДНХ, или, по-нынешнему, во Всероссийском выставочном центре. Так стали называть Выставку достижений народного хозяйства в 90-е годы, когда ни достижений, ни самого народного хозяйства одновременно не стало. Да и сам фонтан с шестнадцатью женскими фигурами в национальных одеждах, олицетворяющий дружбу шестнадцати советских республик, теперь лишь историко-культурная ценность.
Всякое сравнение, как известно, хромает. В начале 70-х, когда я служил в армии, и союзных советских республик насчитывалось уже не шестнадцать, а пятнадцать, и сам знаменитый фонтан вовсе был не похож на упомянутую выше гарнизонную инсталляцию. У нашей роты рвался клювом в небо высокий, поставленный «на попа», фанерный макет боевого истребителя МИГ – такие самолёты мы охраняли на аэродроме лётного училища. Звонких водяных струй поблизости не наблюдалось, если не считать нищенской струйки питьевого фонтанчика у входа в роту. Но для своих дембельских альбомов мы фотографировались именно здесь. И когда на фоне фанерного МИГа и мелкого фонтанчика выстраивались в обнимку «боевые друзья» родом из самых разных республик Союза – русский и украинец, грузин и армянин, молдаванин и узбек – сия композиция и в самом деле чем-то напоминала знаменитый фонтан дружбы народов. Потому мы всё-таки оценили неуклюжее сравнение, придуманное Женей Зубом. Несмотря на то, что зрительный ряд был весьма далёк от оригинала – и по внешнему облику, и по гендерной принадлежности главных фигур. Кроме того, следовало поощрить автора фанерного МИГа – самого ефрейтора Зуба. За четыре месяца до дембеля он решил не то что бы пофилонить, а несколько отвлечься от надоевшей караульной службы. Сказал замполиту, что всё сделает сам, без чьей-либо помощи. По замыслу автора, возле макета самолёта должен был появиться и стенд социалистического соревнования с разноцветными лампочками, отмечающими победы в соревновании взводов и отделений. Замысел был грандиозный, замполит его оценил, а Женька – «мечтатель – хохол» - даже получил краткосрочный отпуск на родину в Харьков – за нужными для воплощения замысла стройматериалами. Так и появился в нашем гарнизоне этот «фонтан дружбы народов»: внушительная стрела истребителя на фоне питьевого фонтанчика и «доска соревнования» с разноцветными, прыгающими, как на новогодней ёлке, лампочками. Правда, к концу нашей службы многие лампочки перегорели.
2.
Подобно этим лампочкам прыгают в голове армейские воспоминания. Становятся особенно яркими, когда подкрепляются некими реальными артефактами. Например, пожелтевшим листом ватмана, который из армии можно было привезти, только согнув несколько раз – и вдоль, и поперёк: на сгибах теперь вот-вот треснет. Аккуратно разворачиваю и вижу самого себя сорокапятилетней давности, вернее – своё подобие, а ещё точней – дружеский шарж. Акварелью запечатлён субъект в полосатом домашнем халате и босыми ногами с почти орангутаньим мужским волосяным покровом на икрах (отродясь такого у меня не было). Левая подмышка субъекта держит книжку с надписью на обложке «Б. Рапопорт», в правой руке огромное гусиное перо. Таким вальяжным, халатово-шерстяным, неизвестный художник наверняка видел в своём воображении Пушкина в Михайловском – на его творческих досугах. Однако лицо, шаржированное – из совсем другой оперы. Что подтверждает выведенное рядом тушью четверостишие: «Товарищ Боря, ваши четверть века – сегодня пост. Сегодня – Часовой. Дерзать! Творить! От этой славной вехи. Таков наказ вам роты боевой».
Много точек, восклицательных знаков, непонятная заглавная буква Ч в слове «часовой» - брызги эмоций! А ниже, по всему ватману полукругом их ещё больше: поздравляя меня с 25-летием, вся рота оставила свои автографы, каждый боец на своём родном языке – русском, грузинском, армянском, молдавском, азербайджанском, узбекском… Полный интернационал!
Думаю, наша рота по своему личному составу была действительно уникальной, даже для Советской армии. Служили мы в Краснодарском крае, недалеко от станицы Кущёвской (да-да, у той самой Кущёвки, которая печально прославилась в новом ХХI веке бандитским беспределом). В советские времена это был тихий южный райцентр с маленькими хатками и деревянными домами, весь в абрикосовых деревьях. Некоторые наши парни, особенно горячие грузины, бегали сюда в самоволку – поближе к девчонкам и винцу. Два или три раза вся рота приезжала в Кущёвку «на помывку» — когда гарнизонная баня была на ремонте. Мне в самоволку бегать не было нужды, поскольку несколько раз получал официальные увольнительные от отцов-командиров: они сами отправляли меня то в местную школу, то в профтехучилище, где, облачённый в парадную форму, я рассказывал старшеклассникам об армейской службе, читая соответствующие пропагандистской теме стихи. Тогда же познакомился и с журналистами Кущёвки – районная газета напечатала несколько моих стихотворений, в том числе и такие строчки:
Рубит ветер крышу с плеча,
губит ветер снег в темноте,
подо мною жёсткий топчан,
на боку – шестьдесят смертей…
Продолжать не буду. В этой книжке вы ещё прочтёте стихи и про «шестьдесят смертей» – про два запасных рожка автоматных патронов в подсумке у часового, и некоторые другие мои армейские вирши, написанные абсолютно искренне, не по «приказу». Поскольку при всём нежелании после вольготной штатской жизни идти «во солдаты» служба в армии тогда не обсуждалась. Потому что не хотел бежать, как некогда мой отец, сначала в «учебку», а потом сразу под пули на фронт. Лучше уж было послужить в мирное время. Вопреки умствованиям наших «диссидентов», фигу в кармане для Советской власти тогда держали очень немногие. Почти все прекрасно понимали установленные «правила игры» и неосознанно следовали им. Потому что хотели мира, простого счастья, в том числе и семейного, нормальной жизни на своей земле. Эта простая истина была неоспорима для многих моих армейских друзей – для харьковчан Евгения Зуба и Арона Маргулиса, для Кости Полякова (мы с ним вместе призывались из Белгорода), для Вано Бачилавы, Армена Григоряна, Вагифа Алекперова, Шоты Кацадзе… Для всех, кто оставил свои размашистые росписи на ватмане под стихами к моему солдатскому дню рождения.
3.
Вряд ли уже прочитанное вами убедило кого-то в том, что в нашей роте царила полная «межнациональная гармония». Какую-либо гармонию следует искать среди ангелов. А всякому человеку, даже самому юному, куда ближе воспетые некогда Пушкиным «покой и воля». Покой – чтобы всё было, как в семье, как дома (цени себя, свои обычаи, но уважай и обычаи других). А воля? Она ведёт к сохранению самого себя, своей неповторимости, самости.
Вот таким, по прошествии почти полувека и предстаю перед читателем – философом в солдатских сапогах. Если же проще об этом рассуждать, то своего рода землячеств и в армии никто не отменял. Грузины «кучковались» с грузинами, узбеки с узбеками, русские (или, если хотите, «русскоязычные») с русскими. Но такие «компашки» возникали, понятно, лишь в редкие минуты отдыха, в казарме. И, как это ни странно, не разъединяли нас, а наоборот – сближали, вызывали взаимный интерес.
Как-то я спросил у Шоты Кацадзе, знает ли он своего великого тёзку – Шоту Руставели. И мой собеседник в сержантских погонах, призванный в армию не из Тбилиси, а из дальнего горного селения, без заминки стал декламировать «Витязя в тигровой шкуре». Читал по памяти долго, а я его и прерывать не хотел, наслаждаясь чистейшим, как ледяной родник, скачущий по камешкам горной Грузии, языком оригинала. Шота сказал, что «Витязя» учил не только в школе: «У нас его все знают. А старики и поют иногда за столом…»
Желая отблагодарить сослуживца, стал напевать ему любимого мной Николоза Бараташвили в переводе Бориса Пастернака:
«Цвет небесный, синий цвет
полюбил я с малых лет.
В детстве мне он означал
синеву иных начал…»
Закончив, спросил: а как это звучит на грузинском? Оказалось, Шота о Бараташвили «что-то слыхал», но стихов не знает. «Приду из армии, обязательно найду его книжку…»
4.
Мы были такими разными не только по языку. Половина роты – парни, получившие высшее образование заочно, в их числе инженер-строитель Женя Зуб, преподаватель истории Арон Маргулис, и я сам, и мой коллега-журналист из Ростова Никита Белов. В отличие от нас инженер по образованию Костя Поляков «загремел» в армию после дневного отделения вуза, поскольку в институте не было военной кафедры. В солдатской гимнастёрке мы служили Родине всего год и, демобилизовавшись, обменивали в военкоматах свои воинские красные удостоверения «рядового и сержантского состава» на зелёные – офицерские. Другая половина роты, из вчерашних выпускников школ, служила положенные два года. Армейский опыт у них был посолидней, многие щеголяли уже в сержантских погонах, особенно кавказцы, были командирами отделений и взводов. Мы, с вузовскими значками на гимнастёрках, были старше их лет на пять, уже кое-что «понимали в жизни» - были «дедами» по возрасту и по опыту своему. Это бравые сержанты признавали и «гнобить» нас не могли. А мы, держась друг друга, не позволяли им и «молодое пополнение» обижать. Таким образом, волк, коза и капуста благополучно следовали по армейскому руслу, без боязни, что кто-то кем-то непременно будет съеден.
Смешно отрицать, что дедовщина в Советской армии была, есть она и сегодня. Возможно, всегда будет. В армии любой. Тем дороже память о нашей роте – сам её состав, помимо какой-либо «воспитательной работы», помогал предупреждать «неуставные отношения». Это особенно было важно для роты, занятой караульной службой, охраной огромного аэродрома лётного училища. Солдатский язык определяет такую службу точно и просто – «через день на ремень». Один день мы занимались в роте сборкой-разборкой автоматов, ездили на учебные стрельбы, бегали с полной выкладкой, а то и в противогазах, по пересеченной местности, слушали замполита (а точнее, писали домой письма) в ленинской комнате. На другой день ехали в караул, а там порядок известный: два часа спишь на жёстком деревянном топчане, спишь в сапогах, в гимнастёрке, с тяжёлым подсумком и штыком на ремне, два часа бодрствуешь, проглатываешь традиционные макароны по-флотски, потом два часа охраняешь аэродром с длинной цепочкой самолётов. И так – целые сутки. О «тяготах службы» говорить не хочу. Казалось бы юг, Краснодарский край, а зима была жестокая, вьюжная, и еле-еле двигался по охраняемому участку в тяжёлом тулупе до пят и с автоматом Калашникова. А летом аэродромный бетон становился таким жарким, что сквозь подошвы сапог пятки обжигал…
Впрочем, если вспомнить собственные стихи, «не об этом веду я речь». А опять же – о «неуставных отношениях» и о том, насколько важно их отсутствие, когда в руках у каждого АКМ и 90 патронов.
До сих пор помню свой разговор с Вагифом, парнем из Азербайджана. Мы готовились одночасно идти на пост – каждый на свой, и Вагиф вдруг выдал:
– Вот Армен дрыхнет. Пошёл бы сейчас со мной, как ты, пулю бы получил.
– Ты что, с ума сошёл?!
– Боря, ты просто не знаешь. Армяне такие хитрые, они так нас ненавидят…
– За что?
– Знаю за что…
От такого диалога я прямо-таки обалдел. Вот тебе и «неуставные отношения», а ещё и «национальный вопрос» впридачу! Успокоился на другой день, уже в роте, подошёл к койке Вагифа:
– Ты мне вчера про Армена в караулке что ляпнул? Это серьёзно?
– Да не было никакого разговора, Боря. Забудь.
Я забыл. Потом вспомнил. Помню до сих пор.
5.
Больно уж скучным и нравоучительным, что ли, становится мой рассказ о службе образца 1971-1972 года. «Бойцы вспоминают минувшие дни, как вместе рубились и пили они». Как «рубились», уже изложил. А как пили? Почему бы не рассказать, коль и это было?
Начну с того, что за пять месяцев до дембеля меня «приблизил» к себе старшина роты Станченко. Хороший был мужик и наверняка пожалел изрядно надорванного повседневной караульной службой «интеллигента». Это я думаю так. Он-то мне при расставании сказал другое. Во всяком случае, когда прежний каптенармус роты, парень из Тимашевска, ушёл на «гражданку», Станченко предложил мне занять его место: «Ты парень грамотный, расторопный, быстро войдёшь в курс дела».
Курс дела в основном заключался в предбанном обмене грязных портянок и исподнего от каждого бойца на бельё чистое, свежее. Ещё надо было следить за парадно-выходным обмундированием, вести некий учёт имущества роты, постельных принадлежностей и т.д., и т.п. Понятно, что ничему этому меня ни в редакции газеты, ни в Московском университете не учили. Но перспектива была великолепной: вдруг появился отдельный кабинет – каптёрка, где, выполняя поручения старшины, можно было порой даже предаваться поэтическим мечтаниям, стихи писать. Правда, тогда же на меня возложили и ещё одну должность – батальонного письмоносца. Но и это было прекрасно. Во-первых, почтальон – желанный гость в любой роте. А во-вторых, у бойца, далёкого от женской ласки, появилась возможность хотя бы от души потрепаться с милыми представительницами прекрасного пола, хозяйками гарнизонной почты. Кроме того, рядовой Рапопорт, ростом всего в 165 сантиметров, вырос на целую голову в глазах сослуживцев. Он стал для них, если следовать Аркадию Райкину, человеком «уважаемым», сидевшем «на дефиците».
Первым мою новую должность оценил Вано Бачилава. Сержант постучал в каптёрку:
– Боря, мне должна завтра прийти посылка из дома…
– Придёт – принесу в роту. Старшина проверит – получишь.
– Да-ра-гой, какой старшина! Какой старшина! – заметался Вано по каптёрке. – В посылке же грелка будет. А может, и две… Чача! Чача, понимаешь?!
Я всё давно понял, поскольку хорошо знал, что в резиновых грелках грузинам присылают виноградную водку. И мне оставалось сказать одно: «фифти – фифти!»
Вано Бачилава английский знал, не зря в средней школе учился:
– Фифти-фифти! – заверил он.
На следующий день я получил от девушки Нины на почте ожидаемую чудесным моим грузином посылку, вскрыл клещами фанерный ящик и пересыпал его содержимое в свой «министерский» — огромный, из прочной кожи – портфель, в котором обычно разносил по гарнизону письма и газеты. Попросил Нину ничего никому не говорить, и она с большим пониманием отнеслась к моей просьбе.
Ночью после отбоя, когда вся рота смотрела сны, мы пировали в каптёрке. «Фифти-фифти» (пятьдесят на пятьдесят) было соблюдено. На светский раут со стороны хозяина посылки были приглашены Шота Кацадзе и Спиридон Гвадзабия, с моей стороны – Женя Зуб и Арон Маргулис. Двух грелок с чачей с лихвой хватило на всех. Потому что чача вещь жестокая. И как её ни закусывай сочными помидорами и домашним сыром сулугуни, а утром, когда дневальный орёт «Рота, подъём!», ох как тяжело оторвать голову от подушки…
Впрочем, чача дурит башку не сразу. Потому что прежде, чем это случилось, наша троица успела рассказать троице грузинской много чего любопытного из студенческой жизни, а кавказские парни настоятельно требовали от нас выучить по-грузински скороговорку «Лягушка квакает в воде». Тот, кто овладеет скороговоркой, твердили они, станет настоящим грузином. Удивительно, но чача лягушку в мозгах закрепила, сидит она в них и по сей день. Прочтите скороговорку в русской транскрипции: «Ба каки, цк алши кик ин эбс». А теперь попробуйте повторить. Молодцом, можете ехать в Грузию!
6.
На мажорной ноте этот рассказ про фонтан дружбы народов можно бы и закончить. Добавив, что после службы я часто стал ездить по выходным из Белгорода, где продолжал работать в молодёжной газете, к своим армейским друзьям – к Жене и Арону - в Харьков. Мы заходили в «идальню» (столовую), угощались густым ароматным украинским борщом и пампушками с чесноком, потом долго гуляли по Сумской… Живы ли вы, мои друзья? Как добраться к вам теперь, после киевского «майдана»? Электрички-то из Белгорода в Харьков (всего семьдесят километров) наверняка уже не ходят…
Увы, и привык вроде, а всё же порой думать невыносимо о том, как великая страна рассыпалась, раздраилась на глазах одного поколения.
Когда «рвануло» в Нагорном Карабахе, мне сразу в голову пришло одно: а не глядят ли сейчас Вагиф и Арсен друг на друга через автоматные прицелы?
Приходится соглашаться с Владимиром Маяковским, что «для веселия планета наша мало оборудована». И всё меньше верить пушкинской надежде на времена, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся…» Однако рассматривая порой наши армейские фотографии с молодыми счастливыми очами на фоне ротного «фонтана дружбы народов» (которого, как вы уже поняли, на самом деле не было), я начинаю относиться к прекрасной надежде Александра Сергеевича с осторожным оптимизмом...
ШЕСТЬДЕСЯТ СМЕРТЕЙ
Рубит ветер крышу с плеча,
Губит ветер снег в темноте.
Подо мною жёсткий топчан,
На боку - шестьдесят смертей.
Спят патроны, и спят пока
Штык солдатский и мой АК,
Охолонули на ветру,
Поздорову спят, подобру.
Два часа, два часа дано,
Чтобы ветер лупил в окно,
Чтобы он не клевал висок,
Два часа, два часа на сон…
Может кто-то меня поймёт,
Скажет: что же служба не мёд…
Не об этом веду я речь,
А о том, что в моём веку
Могут жизней шестьсот сберечь
Шестьдесят смертей на боку.
Мать живи и живи жена,
Горемычных не зная дат,
И Россия будет жива
До тех пор, пока спит солдат
Два часа всего…
И пока
Не звучит: «Караул, в ружьё!»,
Пусть поспят на боку моём
Шестьдесят смертей для врага.
ЧАСОВОЙ
На службу не таю обиду,
Поскольку с ней накоротке.
Вновь, как оружье в пирамиду,
Встают стихи – строка к строке.
О службе бдения и риска
Трассирующей по листу
Летят слова.
В таких описка –
Как сон, как гибель на посту.
Спасибо же солдатским кручам
За то, что мой порыв ценя,
С упорным постоянством учат
Предельной точности меня,
За то, что я и строчкой новой
Свой долг земле отцов плачу,
Что слог о службе часового,
Как автомат, мне по плечу.
1972
ПОЦЕЛОВАННЫЕ ВЬЮГОЙ
1.
В отроческие времена моего поколения, чуть-чуть отставшего по годам от поэтов-шестидесятников, каждый пишущий был почти сакральной фигурой. Или, если хотите, гуру, учителем. Человеком не от мира сего. По крайней мере, таковым казался. Порой и власть предержащие закрывали глаза на то, что некоторые поступки сочинителя не соответствуют моральному облику строителя коммунизма. По этому поводу любили читать вытащенного из толщи Серебряного века Александра Блока: «Пускай я умру под забором, как пёс, пусть жизнь меня в землю втоптала, я знаю: то Бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала!»
Да, поцелованным вьюгой многое прощалось, особенно если этот поцелованный являлся членом Союза писателей СССР, а значит, имел статус профессионального литератора. В таком случае над ним можно было лишь добродушно посмеяться, коли что-то учудит.
Помню, в 1962 году приехал в Вышний Волочёк столичный поэт Виктор Боков. Забегая вперёд, скажу, что он один из самых любимых мной русских поэтов и сегодня. Девять десятков лет прожил и оставил изумительное творческое наследство, которое и ныне требует и читателя своего и исследователя. А в ту пору автор подлинно народных песен «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк» (песен, которые с Людмилой Зыкиной пела вся страна) и вовсе казался небожителем. И я прямо -- таки трепетал, оказавшись рядышком с Виктором Фёдоровичем на сцене литературного вечера, который устроили в актовом зале горкомов партии и комсомола (теперь в этом здании располагается городской суд).
Виктор Боков заворожил слушателей своей артистичностью. Любовно выговаривал, выковыривал из себя каждое слово, обнажая его исконные народные корни, и притоптывал на сцене, и приплясывал. А потом брал в руки балалайку и, виртуозно аккомпанируя себе, лихо выкрикивал в зал частушки собственного сочинения. После такого праздника кому-то другому было уже стыдно идти к зрителям. Но Виктор Фёдорович потрепал молодого местного пиита по плечу: иди, не стесняйся! Что я, пунцовый от волнения, тогда читал со сцены, уже не помню. Зато хорошо помню продолжение вечера. Лидия Смирнова, первый секретарь горкома ВЛКСМ, пригласила Бокова, меня и некоторых слушателей, в основном комсомольских работников, в свой кабинет. Тостов было великое множество, я устал поднимать стакан с лимонадом, а столичный гость после каждой рюмки с «беленькой» ещё и пел частушку. Наконец и он сильно устал, голова его упала на стол, хозяева и гости стали расходиться, но перед этим раздели московского гостя до трусов и уложили почивать на казённом кожаном диване комсомольской богини Вышнего Волочка.
Утром я постучал в этот кабинет, прихватив из домашней библиотеки книжку Виктора Бокова в надежде получить его автограф. Однако Виктора Фёдоровича уже не было, а Лидия Смирнова, смеясь, рассказывала: поэт проснулся глубокой ночью, не понимая, где он, как здесь оказался, ни рубашки, ни костюма, ни туфель не нашёл (они были прибраны в шкаф), открыл рамы, вылез в окно (благо был первый этаж) и босиком, в одних трусах побежал в гостиницу, где остановился. Там тоже случился конфуз: столичного гостя в пляжном виде и без документов дежурная и горничные не узнали и даже вызвали милицию, после визита которой, к счастью, всё благополучно устроилось. Я слушал хозяйку кабинета и не понимал, над чем же она смеётся: ну устал человек, запутался в чужом месте, со всяким бывает… Теперь, уже хорошо зная биографию Бокова, могу предположить что, не до конца протрезвевший, он испытал тогда и некую клаустрофобию – боязнь замкнутого пространства. Ведь Виктор Фёдорович много лет провёл в застенках НКВД и сталинских лагерях, и ему хорошо было знакомо это чувство, беспечно обозначенное впоследствии в советской кинокомедии: замуровали, демоны!..
2.
Возможно, и не стал бы вспоминать эту историю с Виктором Боковым, но она весьма наглядна и характерна для отношений между поэтом и властью. Сегодня ты всенародный любимец, а случись что не так – просто шут гороховый. И хорошо ещё, если шут. Да при Советской власти «поцелованным вьюгой» многое прощалось, однако режим крепчал, кого-то стали прорабатывать по партийной и комсомольской линии, а кого-то даже и судить – как Бродского, за тунеядство. А нынешней власти, далекой от какой-либо идеологии и всё-таки мечтающей о ней, писатели, «инженеры человеческих душ» просто безразличны. Принадлежность к творческому союзу не даёт какого - либо профессионального статуса. В профессиональном реестре Российской Федерации нет даже такой строки – писатель. Тут и крылатую фразу Ленина поневоле вспомнишь: писатель пописывает – читатель почитывает. Ладно уж, пусть почитывает… Хотя бы известный портал «Стихи.ру» в соцсетях, где пишущих и думающих о себе, что они поэты настоящие, уже больше миллиона. Надеюсь, что «настоящих из такого количества отберёт – таки сито времени и читательского вкуса – при условии, что на Руси совсем читать не перестанут, и вкус этот будет развиваться. А ты, читатель, коли не устал, следуй за мной дальше…
3.
Иногда бывает так: невелик творческий потенциал у человека, а в памяти людской остаётся – хотя бы двумя - четырьмя строчками. Потому что они – от души. От настоящего человека.
«Не в Италии, не в Греции этот дивный старичок – и в России есть Венеция: город Вышний Волочёк» - так о старинном городке с его самыми первыми в России рукотворными каналами некогда отозвался Иван Шамов. Бывший военный лётчик, он побывал в нашем городе по приглашению своего однополчанина – волочанина Ивана Прокофьевича Шарого в 1962 году. Столько воды уже утекло по вышневолоцким каналам, а шамовская присказка-прибаутка до сих пор живёт и переносится из буклета в буклет, из путеводителя в путеводитель. Четыре строчки при всей их незатейливости пришлись по сердцу моим землякам, потому что они добры и – поэтичны. Хотя Иван Васильевич Шамов настоящим поэтом себя не считал. Боевой ас в годы Великой Отечественной, он после войны на очередных воинских учениях неудачно приземлился с парашютом. Получив тяжёлую травму позвоночника, навсегда остался в инвалидном кресле. Тут-то и вспомнил юношескую тягу к перу. Известному композитору Борису Мокроусову однажды приглянулись его строчки, он написал на них музыку, и вся необъятная земля наша запела, а порой и сегодня поёт: «Костры горят далёкие, луна в реке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается…»
А теперь поразмыслим: настоящий или не настоящий он поэт – Иван Шамов? Рифмует лишь вторую и четвёртую строки, да и рифма ли это: купается - прощается… Может, рифма и никудышная, но в ней ли дело? Тут, говоря словами Бориса Пастернака, «строку диктует чувство», поэтому словесное ремесло и озаряется истинной поэзией.
Возможно, я этого и не понимал тогда, в октябре 1962 года, когда Иван Васильевич приезжал в Вышний Волочёк, встречался с читателями. Однако потянулся к бывшему лётчику, поскольку родную душу в нём увидал. И буквально через два месяца, в декабре, откликнувшись на приглашение Шамова, навестил его в Москве. В маленькой квартире пятиэтажной «хрущёвки» за Тишинским рынком меня радушно встретила Наталья Ивановна – супруга и ангел-хранитель поэта, с ней я уже хорошо познакомился раньше, в Вышнем Волочке. Вместе прошли в комнату, где Шамов – полноватый, с жёлтым лицом – полулежал в подушках, и сильно пахло лекарствами. Поначалу чувствовал я себя неловко, словно случайный визитёр к тяжелобольному. Но неловкость прошла, едва хозяин стал рассказывать, что «только – только однополчанин приходил», показывать письма друзей – фронтовиков, читать стихи и даже «в лицах» изображать, как на днях его записывали дома для радио…
Речь Шамова была пересыпана шутками-прибаутками, и совсем не больной теперь был передо мной. Как же далеко на все четыре стороны смотрел он из своей московской квартирки, этот недужный, обезноженный, но такой весёлый и сильный человек – крылатый по роду своей былой лётной службы и вновь обретающий крылья – в поэзии!
Словно угадывая мои мысли, Иван Васильевич неожиданно спросил:
– Ты уже читал Бориса Пастернака?
– Пробовал, - ответил я, - многого не понимаю.
– Поэт, конечно сложный, но – прекрасный. Вырастешь – взахлёб будешь читать. А о Пастернаке я потому вспомнил, что именно он назвал поэзию высокой болезнью. И нужно до конца болеть ею. Вместе со всеми своими физическими болячками. Чтобы человеком быть. До конца…
Много лет прошло, но и сегодня, особенно если недужится, я беру в руки книжку в синем картонном переплёте – выпущенную в 1962 оду Воениздатом книгу Ивана Шамова «Служу Советскому Союзу», читаю эпиграф к поэтическому сборнику: «Пусть недуг свинцовым грузом в теле, не желаю людям быть в обузу. И теперь, прикованный к постели, я служу Советскому Союзу!»
Советского Союза, как и самого автора книги, давно нет, а простые точные строки Шамова (по крайней мере те, что положены на музыку) продолжают служить людям.
Не оставила службу и дарственная надпись на этой книге: « Боре Рапопорту – на память о встречах. Мир чудесен и огромен, люди наши хороши. Будь, Борис, предельно скромен и – пиши, пиши, пиши! Сердечно Иван Шамов. Москва, 11 декабря 1962 .»
Читаю и, дойдя до строчки «Будь, Борис, предельно скромен», улыбаюсь. Ай да Иван Васильевич, ай да лётчик боевой! Сумел-таки слегка, осторожненько так, нащупать болевую точку и приземлить молодого пиита за излишнее тщеславие. Увы-увы, никого из пишущих нельзя до конца избавить от сего заразного недуга. Однако притупить, приглушить его симптомы можно и нужно. Для спасения души человеческой, которая жива и, дай Бог, будет жить, благодаря целебному свойству болезни иной – «высокой болезни» поэзии. Того самого недуга, в который некогда меня посвящал настоящий человек и поэт Иван Шамов.
4.
Вышний Волочёк 60-70-х годов прошлого века, второй тогда по числу жителей город губернии, был первым в ней по своей литературной «продвинутости». Да-да, даже областной центр, с книжным издательством и профессиональной писательской организацией, признавал наш приоритет в устроении ежегодных Дней поэзии. У меня сохранилось несколько афиш этих праздников слова. Вот одна из них, датированная 30 мая 1976 года – днём одиннадцатого по счёту традиционного городского праздника поэзии. И вот его программа, цитирую по афише: «Начало праздника, книжный базар в 11 час.в Ленинском сквере. Встреча с поэтами Вышневолоцкого литературного объединения К. Рябеньким, Р. Ивановым, Б. Рапопортом, С. Володиной, А. Сусловым, А. Вихровым, Е. Косовым, Н. Артемьевым. К нам в гости приедут московские и калининские поэты, любители поэзии из села Таложня Торжокского района. На празднике будут исполнены песни на слова вышневолоцких поэтов. В 13 часов стихи зазвучат на эстраде городского сада. В 17 часов вечер поэзии в городском Доме культуры с участием самодеятельных артистов клуба фабрики «Пролетарский авангард» и городского Дома культуры» Уф-ф, рука бойца стучать по клавишам устала… А представляете, насколько сладкой была тогда эта усталость для нас, пишущих, читающих стихи, бегающих с одной поэтической площадки на другую, от микрофона к микрофону?!
«Послушайте, если стихи читают вслух, значит это кому-то нужно?!»
Такое мог бы сочинить поздний Маяковский. А мы и не сомневались: конечно, нужно людям яркое звучащее слово! Справедливости ради стоит сказать, что с постепенным угасанием «стадионной поэзии» поэтов-шестидесятников в столицах интерес к подобным праздникам стал падать и у нас в провинции – землякам куда интересней стало сидеть у телевизоров. Как сегодня у компьютеров. Но ведь были же такие праздники? Конечно, были! И приезжали в провинцию – себя показать, на людей посмотреть – многочисленные столичные авторы.
Например, Виктор Урин. Очень интересный, а ныне, увы, подзабытый поэт-фронтовик, подаривший мне свою книжку с автографом. Книжечка тоненькая, изданная сразу после войны, ещё в 1946 году, на серой газетной бумаге, хотя стихи в ней – непосредственного участника и очевидца грозовых событий Родины – поистине бесценны…
Наслышанный о наших Днях поэзии, приезжал в Вышний Волочёк Михаил Львов - член редколлегии и редактор – составитель выходившей ежегодно Всесоюзной антологии «День поэзии». Русский поэт с татарскими корнями, он однажды написал стихотворение «Сколько нас нерусских у России…» И совсем недавно с неожиданной радостью узнавания я услышал эти строки Львова в политическом (!) телешоу на канале «Россия», когда один из участников шоу пытался образно объяснить себе и зрителям, что же это такое – «русский мир»…
А в конце 70-х, когда вышневолоцкие поэты бежали на майскую традиционную встречу с читателями в городской Дом культуры, возле нас резко притормозила белая «Волга» и из неё выскочил Эдуард Успенский, придумавший Чебурашку и Крокодила Гену. «Возьмёте, ребята, в свою компанию?» – «Конечно, возьмём». Успенский объяснил, что вообще-то приехал в Волочёк навестить родственников, но услышав про наш День поэзии, сказал себе: не проходите мимо… Возможно, так и было, хотя у детского писателя и сценариста любимых мультфильмов «совершенно случайно» оказались с собой магнитофонные записи песен мультяшных героев. Во всяком случае Успенский вместе с ними заметно оживил наш поэтический праздник в ДК и привлёк огромное число юных зрителей, чему все были несказанно рады. Ведь путешествие в страну поэзию для многих, кто и не знал о такой стране, начиналось и, дай Бог, будет начинаться и с них – с песенок крокодила Гены…
И с колыбельной, которую поёт Любовь Орлова мальчику-негритёнку в классическом советском кинофильме «Цирк». Отцом этого мальчика был американский коммунист, работник Коминтерна, в стране Советов он нашёл себе русскую спутницу жизни – маму будущего поэта и прозаика Джеймса Паттерсона. В 60-70-е годы он дважды приезжал в Вышний Волочёк – и на занятие литературного объединения, и на День поэзии. Его рассказы и стихи о своих родовых корнях, о поиске места в вечно меняющемся мире весьма колоритны и любопытны. И мне было чрезвычайно интересно увидеть недавно Джеймса Паттерсона на телеэкране – поэт теперь живёт на родине отца в США. Ему далеко за восемьдесят, постарел, погрузнел, на тоненького «шоколадного» юношу совсем не похож. Но по своей тяге к поиску родовых корней, к поиску слова прежний – страстотерпец. Поцелованный вьюгой поэзии.
5.
Достаю из запасников ещё одну книжицу с автографом, читаю: «На добрую память Боре Рапопорту с пожеланием взять в будущем поэтические высоты. А. Дементьев, июнь 1963г., В. Волочёк». Автор этой книжки – «Глазами любви» - ровесник предыдущего героя очерка. Поэтическая слава Андрея Дементьева в России давно затмевает известность и всех литераторов, уже упомянутых мной, и многих прочих. Хотя некоторые считают, что Дементьев останется в истории русской поэзии, в основном как автор стихотворений, ставших прекрасными песнями – «Лебединая верность», «Алексей, Алёшенька, сынок…» и других. Спорить с ними не буду. Потому что у меня к Андрею Дмитриевичу отношение своё, особое, а точнее сказать – ученическое. Слегка склонный к нравоучениям, А. Дементьев некогда написал: «Не смейте забывать учителей…» А я и не забываю. Хорошо помню, как в начале 60-х годов дважды побывал в областном центре на поэтических семинарах, которые он вёл – тогда уже маститый автор. Школу Дементьева – честную, строгую, умную и – доверительную прошли в своё время и другие вышневолоцкие авторы – Виктор Никитин, Виктор Гущин, Ирина Лебедева. Для некоторых, в том числе и для меня, эта школа обернулась первыми значительными публикациями в двух солидных литературно-художественных сборниках: «Обыкновенные люди» и «Товарищ». Один за другим они увидели свет в Калининском книжном издательстве в 1962-1963 годах.
Впоследствии, в 70-е годы, наставничество Дементьева помогло опериться, встать на крыло творчеству другого вышневолоцкого автора – Константина Рябенького. Костя, в отличие от многих из нас, начал писать поздно, а по-настоящему – после армии, но затем земляков обогнал и вопреки некоторым весьма грустным обстоятельствам своей жизни сумел стать, не побоюсь этого определения, большим русским поэтом – стихи его достойно занимают в нашей поэзии есенинско-рубцовскую нишу. Андрей Дементьев впервые представил его творчество на региональном уровне, отобрав стихи и написав предисловие к первой солидной публикации К. Рябенького в областной газете. Помню, что Костя поначалу не совсем был доволен такой помощью, считая, что одно из стихотворений этой подборки «Дементьев переписал». Но с годами сумел проглотить юношескую обиду и признать Андрея Дмитриевича своим Учителем.
Однако вернёмся в годы шестидесятые. Дементьев тогда довольно часто приезжал в Вышний Волочёк для работы над поэмой о нашей землячке Герое Социалистического труда ткачихе Валентине Гагановой. Поэму «Дорога в завтра» издали отдельной книжкой. В свои последующие книги Дементьев поэму не включал, считая её, видимо, выспренней, написанной «на потребу времени». Спорить с этим тоже не хочу, хотя так и подмывает сказать наставнику моих первых поэтических семинаров его же слогом: не смейте забывать, что написали…
Впрочем, яйца курицу не учат. И вспомню-ка лучше, как Дементьев, работая в Волочке над своей поэмой, помог нам выпустить первый и уникальный в своём роде вышневолоцкий литературный альманах «Над селом занимаются зори». Идея такого издания принадлежит Александру Александровичу Игумнову. Ответственный секретарь районной газеты «Ленинец», бывший фронтовик и хороший поэт, он тоже навсегда остался в моей памяти Наставником с большой буквы – учителем и в газетном деле, и в поэтическом творчестве. А мысль о «нашенском» альманахе родилась в канун Дня поэзии-63. Обычно к традиционному ежегодному литературному празднику и районная, и городская газеты давали по полосе стихов местных авторов. Сан Саныч (так Игумнова величали) решил всех переплюнуть: будет альманах! Сегодняшнему читателю объясню: издание книг, тем паче литературного толка, на районном уровне строго регламентировалось. И не только из-за лишних бюджетных расходов, но и по идеологическим соображениям. Чтобы добиться издания, требовалось пройти десятки инстанций, в том числе и столичных, но время-то не терпело. И тогда они втроём – Александр Игумнов, редактор «Ленинца» член правления Союза журналистов СССР Нина Петровна Цветкова и поэт Андрей Дементьев – решили издать альманах, пользуясь возможностями… самой районной газеты. Книжка «подпольно» была напечатана в местной типографии в виде доброго десятка обычных газетных полос. Потом, в соответствии с вёрсткой сфальцована, сброшюрована, сшита и – укрыта обложкой. «Эта книга – не только коллективный сборник произведений А. Игумнова, С. Воскресенского, В. Петрова, В. Никитина, Б. Рапопорта, В. Гущина… Это плод многолетнего труда всего литературного объединения, – сообщил в предисловии к альманаху Андрей Дементьев, – по-моему, книжка искренна – от первой до последней строки… Люди, писавшие и делавшие её очень любят литературу».
Мы действительно очень любили литературу. И будучи авторами коллективного печатного труда, устроили «всенощную» в типографии, помогая печатникам в волшебном преображении газетных полос в книжку. А 30 мая, в День поэзии, вышли к читателям – землякам с этой книжкой – представляя её и продавая. По 5 копеек за экземпляр. Вместе с нами в торжестве поэтического слова участвовал автор предисловия, уже тогда именитый Андрей Дементьев – вот у кого стоит и сегодня поучиться пишущим, как читать на публике свои стихи!..
Мои пути с Учителем потом надолго разошлись. Вновь повидался с ним в 1971 году. Работал в Белгороде в молодёжной газете «Ленинская смена» и получил задание подготовить выступление делегата от Белгородщины на 16-м съезде комсомола. Поехал в Москву, чтобы «заверить» текст выступления в ЦК ВЛКСМ. И там неожиданно встретил Андрея Дементьева. В ту пору он работал заместителем руководителя отдела пропаганды этого центрального комсомольского штаба. Понятно, что «по-свойски» мы быстро решили все проблемы моей столичной командировки. Потом долго сидели у Андрея Дмитриевича в кабинете, он спрашивал о моих странствиях по России, листал мою первую, изданную на Алтае книгу «Земляничная поляна», читали друг другу стихи…
Следующая наша «стыковка» произошла в 2007 году на празднике в честь Дня российской прессы, устроенном тверским губернатором в санатории «Митино» под Торжком. Дементьев – руководитель тверского землячества в Москве и член Общественной палаты России – сидел среди почётных гостей. Но мы быстро узнали друг друга и вскоре оказались за одним столом…
Идут годы. И я уже в газете не работаю, и Дементьев постепенно уходит от больших общественных дел, а наши пути постоянно пересекаются. То на Неделе тверской книги в областной библиотеке имени Горького, то на литературном вечере в Доме поэзии Андрея Дементьева. Хорошо знаю, что некоторые мои коллеги неоднозначно относятся к самому появлению этого Дома на улице Володарского в Твери. Считают, к примеру, что таким образом поэт стремится себя «увековечить». А я думаю об ином увековечении – нашей культуры. Культуры живого человеческого общения, культуры творчества. В этом смысле наша Тверь, по-моему, очень многое приобрела от своего сына и моего первого наставника Андрея Дмитриевича Дементьева. Что же касается тщеславия… Не скрою, и мне душу греет не только каждая новая встреча с поэтом-земляком, но и соседство наших имён в недавно увидавшей свет «Антологии тверской поэзии XX–XXI веков». Ничего плохого не вижу в том, что стихи учителя и ученика оказались рядом – под одной обложкой. Значит, не зря в 1963 году Андрей Дементьев пожелал шестнадцатилетнему Боре Рапопорту «взять в будущем поэтические высоты»…
***
«Не дудка я, на мне играть нельзя…»
На чёрно-белой глыбе Эльсинора
слезятся смоктуновские глаза –
с такими хоть сегодня в дом актёра,
а можно и в подземный переход,
где в горемычной думе о монете
хоралы Клара истово поёт,
а бедный Карл играет на кларнете,
и некогда подумать о себе,
когда судьба играет человеком,
а человек играет на трубе,
причём с весьма сомнительным успехом.
Что мне до филармонии такой?
Я не учился в музыкальной школе:
как червяков, диезы и бемоли
смахну с листа уставшею рукой.
Не дудка я, на мне нельзя играть:
лишаюсь и таланта, и рассудка.
Но снова колыбель качает мать,
и подпевает маме божья дудка.
2013
ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ
1.
Недавно я прощался со своей старой учительницей. Александра Михайловна Васильева, некогда преподававшая в Вышневолоцкой средней школе № 6 русский язык и литературу, ушла в мир иной аж на 99-м году жизни, оставив мне, уже семидесятилетнему, почти неразрешимую загадку. Такую, какую наверняка и мифический Сфинкс мог задать царю Эдипу. Однажды после урока, на котором мы «проходили» творчество Александра Блока, Александра Михайловна задержала меня и неожиданно спросила: «А ты не знаешь, Боря, почему Блок называет Русь женой: «О Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь…» Все русские поэты величают Родину матерью, а он – женой». – «Не знаю, не думал, Александра Михайловна». – «Вот и я не знаю, хотя думала много, давай подумаем вместе…»
Александра Михайловна была мудрой женщиной. Многое знавшей, повидавшей, многое сумевшей. До войны репрессировали её отца. Но дочь «врага народа» смогла получить высшее образование и, хорошо выучив и свой родной, и немецкий язык, стала на фронте военной переводчицей. Кроме того, через радиорупор убеждала противников сложить оружие. Делала это вместе с Борисом Слуцким и много рассказывала мне об этом уникальном поэте, когда Слуцкого мало кто ещё знал, а лишь переписывали из тетрадки в тетрадку его знаковое – «Лошади в океане». Этих лошадей и ко мне подогнала, конечно же, Александра Михайловна. Потому что хотела по-хорошему озадачить ученика. В том числе и блоковской «женой Русью…»
Задай мне эту загадку Александра Михайловна сегодня, я, возможно бы, отшутился. Пошленько и довольно цинично. Наверняка напомнил бы, какие странные, скажем так, были отношения у Александра Блока со своей собственной женой Любовью Менделеевой – отсутствие плотской связи с ней заменял хождениями в публичные дома и сочинял стихи о … Прекрасной даме. К счастью, тогда, восьмиклассником, я ничего этого не знал. Как и не понимал ещё, что личность поэта и его лирический герой – далеко не одно и то же. И это очень хорошо, что школьная преподавательница так и не дождалась ответа на свой неожиданный вопрос. Покойся с миром, моя дорогая учительница, утешаясь тем, что ни на этом, ни на том свете прямых ответов и лобовых решений никогда не бывает. Особенно в поэзии. «О Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь…» Ничего-то нам не ясно и ясным не будет. Ни сегодня, ни завтра, ни за гробовой доской, когда уже другие будут ломать голову над загадкой Сфинкса. Но тем и счастлива душа человеческая – вечным поиском ответа и вечным отсутствием его…
2.
Впрочем, и это не сам я придумал. Нечто подобное слышал когда-то от другой своей прекрасной учительницы – поэта Риммы Фёдоровны Казаковой, с которой познакомился в 1964 году, готовя свою первую большую поэтическую подборку для публикации во Всесоюзном журнале «Смена». Она была членом редколлегии и заведующей отделом поэзии журнала. И совершенно неожиданно пригласила начинающего стихотворца к себе домой, в небольшую московскую трёхкомнатную квартирку на Ленинском проспекте. Угощала чаем. Читала стихи из своей будущей книги: «Спасибо вам, ёлки зелёные, за то, что ваш колер – не грим, за то, что эх, ёлки зелёные! – по-русски в беде говорим. Мы здесь ни пичуги залётные, мы этой земли семена. И жизнь будет – ёлки зелёные! – такою, какая нужна».
– Тебе всё понятно? – спрашивала.
– Конечно! – радостно кивал я, очарованный молодым напором строк, той самой романтикой шестидесятничества, в которую и сам уже был погружён по уши:
– И жизнь будет – ёлки зелёные!..
– Будет, всё будет, Боря. И многое поймёшь, когда перейдёшь через непонятки. Вот ты пишешь: «Они не знают, что такое трудно, девчата из фабричной ШРМ…». Всё абсолютно понятно, всё на русском языке, но это не стихи, это из газетной заметки. А вот другие твои строчки – «Мамы усталые письма пишут, рыбы на нерест идут подо льдом». Это уже похоже на стихи, хотя и непонятные мне, поскольку не знаю, идут ли рыбы подо льдом на нерест и куда они идут вообще. Прозаик скажет, к примеру: «Вечер наступил…», а поэт напишет: «Вечер бродит по лесным дорожкам…». Ещё и на гитаре подыграет.
3.
Она, на пятнадцать лет старше, говорила со мной моим же языком. И моими же песнями. «Вечер бродит по лесным дорожкам…» Совсем недавно, летом 1964-го мы пели эти строки под гитару у вечернего костра на берегу Чёрного моря. Пели, конечно, и про «солнышко лесное», и как «атланты держат небо на каменных руках», и о «комиссарах в пыльных шлемах». У нас с Риммой, несмотря на разницу в возрасте, был общий культурный код, построенный на столь очевидном: ничто и никто не может победить человеческого стремления к любви и счастью, к тому абсолютному ощущению бытия, которое называется романтизмом. Молодые литераторы шестидесятых годов, к коим принадлежала Римма Казакова, а за ними и мы, помоложе, бежали вприпрыжку, и были настоящими романтиками. Они и в литературу-то ринулись ради того, чтобы запечатлеть эту свою жажду жизни, своё, как говорил кто-то из великих футуристов, желание «будущего сегодня».
Впрочем, пора вернуться на грешную землю, чтобы объяснить читателю, как это вечер, который бродил по лесным дорожкам, взял меня за руку да к Римме привёл. А начиналось всё так, как сообщил об этом декабрьский за 1964 год номер журнала «Смена», где Казакова тогда работала: «Летом во Всесоюзном лагере «Орлёнок» говорили: А вы знаете, какие стихи пишет у нас Боря Рапопорт? Он из комсомольского штаба старшеклассников в Вышнем Волочке».
Таких, как я, комсомольских активистов-школьников со всего Советского Союза, собралось тогда в июльском «Орлёнке» в 1964 году человек пятьсот. В одном нашем отряде «Искатель» под опекой замечательных вожатых Тани Фроловой, Вали Савельева собралось сорок девять мальчишек и девчонок из Москвы и Саранска, Свердловска и Кутаиси, других больших и малых городов великой страны, которая ни копейки не брала со своих юных граждан за месяц пребывания в раю. Всероссийский детский центр «Орлёнок» (так теперь называется этот лагерь в Туапсе) тогда только строился. Готовы были лишь огромная столовая, клуб, медицинский пункт, административное здание, куда в любую минуту можно было прийти за советом к «орлятскому папе» Олегу Газману. А жили и спали мы в огромных брезентовых палатках – на 20 человек каждая – на самом берегу моря. И это тоже было прекрасно, поскольку напрямую вязалось и с романтикой в целом, и с юношеским трепетным очарованием наших вечерних костров, где рождались первые влюблённости и симпатии. Понятно, что такая симпатия была и у меня – к Гале Кочешковой «из города Горький, где ясные зорьки» – из Нижнего Новгорода. Лет через пятьдесят она через соцсети разыскала меня и мы порой вновь вспоминаем наш «Орлёнок», высокое духовное пиршество юности.
Галина, к примеру, напомнила мне о зимнем орлятском сборе в Москве. По инициативе вожатых многие ребята из отряда «Искатель» сумели приехать на зимние школьные каникулы в столицу на стыке 1964 и 1965 годов. Мы ночевали на спортивных матах в физкультурном зале одной из московских школ, побывали на новогодней ёлке в Кремле, на встрече с композитором Александрой Пахмутовой, слушали стихи тогда ещё начинающего литератора Фазиля Искандера в редакции журнала «Юность»…
А я напомнил Галине, какие песни мы пели летом у традиционных вечерних костров в «Орлёнке». Песни Визбора, Городницкого , Окуджавы и прочих знаменитых бардов. Но были песни и свои – сочинённые москвичом Витей Климовым. Он прекрасно играл на баяне и гитаре и однажды подобрал музыку к моим строчкам: «Где-то нет родной земли, есть земля чужая, я пока что корабли только провожаю. На корму звезда легла, в мачтах ветры гнутся. Если мать-земля кругла, корабли вернуться…»
Мы уже хором распевали новое сочинение, когда к костру подошёл некто ранее не знакомый, представился: «Володя Белов, корреспондент журнала «Смена». Спросил, чьи стихи поём. «Бори Рапопорта!» – хором же прокричали «искатели» и кивнули на меня.
– А у тебя есть с собой ещё стихи? – спросил корреспондент.
– Конечно.
– Знаешь что, приходи-ка завтра утречком со своими тетрадками ко мне в гостиницу. Почитаем вместе, что-то, может, для печати выберём…
Так началась моя дорога в журнал «Смена». К первой столичной публикации. И самое главное – дорога к Римме Казаковой. О ней и продолжаю рассказ.
4.
Она родилась 27 января 1932 года в семье военного, в раннем детстве поездила по гарнизонам: сначала Севастополь, потом Белоруссия. В школу пошла в Ленинграде. Потом блокада, из которой с мамой Софьей чудом вырвались. Папа Фёдор, понятно, на фронте… Что такое война, она очень хорошо знала: «Я думала – война прошла. Ну, пару дырочек прожгла в шинели моего отца… а ей всё нет и нет конца. Пускай воюет не отец – другой старик, другой юнец. Другая девочка в слезах – а всё война в моих глазах! И по земле идёт весна – не по весне идёт война. По сентябрю, по январю – и по всему, что я люблю. Устали люди воевать. Устали люди горевать. Но по-пластунски, словно взвод, паучья свастика ползёт. И я оружие беру, хоть, может, завтра и умру. Но будет день – и тих, и синь, и будет мир, и скажет сын, спокойно стоя у окна: «Ну вот и кончилась война…»
Словно сегодня написано. И завтра напишут так же. Война не кончится, пока мир питается жадностью, алчностью, ненавистью. А ещё русофобией, отторжением «неверных», антисемитизмом – всё это одновременно розно и – едино. И очень хорошо было понятно и Римме, и мне. Оба «полукровки». У неё папа русский, мама – еврейка, у меня - наоборот, что сути не меняет. Курносая Римма на еврейку совсем была не похожа, но любила подчёркивать свои корни. Чтобы «подразнить гадов». Этому и я у неё научился. Ведь скрывая, отрицая, затушёвывая свои корни, любой человек как бы душу свою теряет. Кроме того, и собственная семья у Риммы была интернациональной. Её сынок Жора – рыженький, с конопушками – был очень похож на маленького англичанина. Или на шотландца. В папу пошёл. В Георгия Радова, а точнее – в Джорджа Вельтша. Таким было настоящее имя мужа Риммы Казаковой. Он сам посвятил меня в своё происхождение при третьем визите в эту семью. Отец и мать Георгия Георгиевича Радова, родом с Британских островов, в начале ХХ века, приехали в Россию на Кубань, купили земельный надел, обзавелись фермой. Но пришла революция и «богатеньким» Вельтшам в сумятице гражданской войны пришлось бежать, а их годовалого сынка взялась опекать русская няня. Она и стала его настоящей мамой, а Джордж Вельтш – Георгием Радовым, довольно известным советским писателем-публицистом. Подарил мне свою книгу рассказов «Челомбитько и Лиходед» с автографом: «Борису Рапопорту с надеждами. Г.Радов».
Каюсь, заставил себя прочесть эту книгу кубанских очерков далеко не сразу. Потому что набил оскомину от собственных многочисленных сельских очерков в районных и областных газетах. Но всё-таки прочёл. Когда захотел увидеть Кубань, этот удивительно богатый и хлебом, и яркими людскими характерами край, где проходила моя воинская служба, глазами иного очевидца. И в книге Георгия Радова не разочаровался, хотя, чего греха таить, довольно скептически по молодости лет относился к её автору.
Дело в том, что с мужем Риммы Казаковой у неё дома я встречался всего три раза. Георгий Радов обычно работал над своими рассказами и очерками в писательском доме творчества в Малеевке. Приезжал домой чуть навеселе. Увидев меня, случайного юного гостя, почему-то бурно радовался, приглашал на кухню – на сто грамм, а также для того, чтобы рассказать, как «котики размножаются на Алеутских островах» (вместо «размножаются» употреблял словечко поядрёней). Понятно, что Римме всё это после наших высоких поэтических словопрений не слишком нравилось. Однако со временем всё «устаканилось»: Радов, узнав, что я с детства не только пишу стихи, но и с газетой связан, увидел во мне и своего ученика:
– В «Смене» тебя уже знают, стихи напечатали – попробуй теперь очерк для журнала написать. Римма протолкнёт…
– Не собираюсь! – сказала Римма.
– А и не надо. Сам себя протолкнёт. Так ведь, Борька?!
– А о чём очерк?
– Я тут слышал, как ты о своём лагере «Орлёнок», о своих песнях у костра рассказывал. Всё это замечательно, но всё это, как говаривал Гоголь, именины сердца. А так ли русская провинция, так ли твой Вышний Волочёк живёт? Романтика романтикой, а дело делом, только тогда, как утверждает моя супруга, «и жизнь будет – ёлки зелёные! – такою, какая нужна!»
Римма вспыхнула: «Хватит морочить мальчишке голову!»
А я задумался. Вернувшись домой начал сочинять. Не с поэтической страстью, но с пылким «коммунарским» вдохновением комсомольского активиста. «Улица ждёт хозяина» – такое название дал своему опусу и повёз его в Москву. В редакции журнала «Смена» – Бумажный проезд, 14 – нашёл уже знакомого Володю Белова. Читал он долго, внимательно, но чиркать и править ничего не стал. Просто объяснил, что нравится, что не нравится. Каких мыслей и «картинок» не хватает. «Поработай, юноша!»
Дома в Волочке продолжал думать, переписывать. Ещё дважды возил очерк в Москву. И с третьего раза он был принят и напечатан в августовском номере журнала «Смена» за 1965 год. Уже без единой правки. И даже под моим заголовком. Так тогда умели работать с начинающими. Не правя, не чиркая, не перекраивая, а заставляя думать. Своей головой.
Этот очерк стал своего рода моей визитной карточкой на творческом конкурсе при поступлении на журфак Московского Государственного университета, открыл путь к будущей профессии. Но с этого очерка началось и «раздвоение личности», о чём впоследствии хорошо написал в предисловии к моей поэтической книге «Родинка» тверской литератор редактор журнала «Русская провинция» Михаил Петров: «Кто смирялся с судьбой, становился только газетчиком, кто не выдерживал гонки, сходил с круга, но редкие трудники, как Борис Рапопорт, находили в себе силы жить в параллельных мирах: газетном и поэтическом. Не будем спрашивать, скольких это стоило сил, но годы работы в газетном суетном цехе не заглушили в его душе цветов поэзии».
Спасибо, Михаил Григорьевич! Я преклоняю голову перед вашей памятью. Перед памятью всех своих учителей – школьного педагога Александры Михайловны Васильевой, писателя-публициста Геория Георгиевича Радова и, главным образом, - перед Риммой Фёдоровной Казаковой. Именно знакомство с ней, её уроки и помогли мне сохранить в душе «цветы поэзии».
5.
Однажды привёз из Волочка в Москву её книжку и попросил автограф. Мы вместе раскрыли книжку и рассмеялись: Риммина фотография, из-за типографского брака, была вклеена под обложкой… вниз головой. «Дорогой Боря! – написал она. – Так и буду я тебе улыбаться вниз головой. Но поэзия и должна быть чуточку ненормальной. Будь счастлив! Римма».
В этот день я впервые познакомился с Римминой мамой. Тётя Софья (так она представилась) только вчера приехала из Ленинграда и хлопотала у дочки на кухне, чтобы накормить гостей – Майю Румянцеву из Липецка, москвичку Инну Кашежеву. Я уже слышал от Риммы об этих подругах-поэтессах и, конечно же, очень порадовался, что попал в такую компанию. А было это 29 декабря. Чуть ли не Новый год встречали. В соседней комнате рыженький Жора Радов №2 ёлочку наряжал. А у нас на столе горели свечи возле непременного салата – оливье и пузатой бутылочки с болгарским коньяком «Плиска». Было очень весело. Читали пародии, сочиняли буриме – стихи на заданные рифмы. А девчонки (они уже «девчонками» для меня, сопливого, стали) ещё и сплетничали. Вспоминали, что учудил на днях в Доме актёра «звёздный мальчик» Никита Михалков, ставший таковым после фильма «Я шагаю по Москве»…
Впрочем, пересудами занимались недолго. Римма стала вдруг вспоминать свою «дальневосточную молодость». Закончив истфак Ленинградского университета, она уехала в Хабаровск не «за туманом и за запахом тайги», как пели тогда, а по распределению. Работала в школе, потом лектором, в газете и на киностудии. По её словам, всё было будничным. Какая там романтика?! (Но была она, романтика, непременно была, как и у меня через несколько лет – на Алтае, куда я тоже ехал не за запахом тайги, но сумел схватить всеми порами своими этот ни с чем не сравнимый солнечный запах – смолистый таёжный запах лирической поэзии). Да вы сами почитайте сегодня раннюю Римму Казакову – например, это: «Мы молоды, у нас чулки со штопками…». Или другое: «Поделись со мною счастьем, офицерская жена…». Или вот: «Ты такой, ты не шибкий… Я же – как на духу: вся в ушибах, в ошибках, как цыплёнок в пуху…».
Я давно уверился в том, что какой-то особой «женской» поэзии не бывает. Но если всё же выстроить в памяти ряд прекрасных поэтесс, то сразу отличишь в нём особую казаковскую интонацию. Я удивляюсь кружевам Ахмадулиной, страстному заиканию Цветаевой, строгости Ахматовой, звонкой парадоксальности Юнны Мориц. А за душу чаще берёт простосердечная искренность Риммы Казаковой. Не слишком громогласная, не претендующая на то, чтобы стать «знамением времени». Возможно, потому и не очень выделялась она на фоне Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, хотя и выходила вместе с ними на тысячи человеческих глаз в эпоху «стадионной поэзии». Впрочем, любовью и славой талант её не был обделён. В 1955 году впервые напечаталась, в 1958-м – выпустила первый поэтический сборник «Встретимся на Востоке», а в 1959-м была принята в Союз писателей СССР. Много лет была секретарём творческого союза. Книг при жизни выпустила великое множество. Кроме того, занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья. Миллионам соотечественников стала известна как автор стихов к песням «Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой» и других. Иногда, слушая эти песни, я вновь чувствую себя настоящим счастливчиком, потому что дружил некогда с самой «мадонной», учился у неё…
6.
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, когда с рухнувшим Советским Союзом «распалась связь времён» и повседневная забота о куске хлеба стала затмевать любимые поэтические образы и их авторов, всё реже стал вспоминать я и свою крёстную – Римму Казакову. Правда, однажды жёлтая пресса стала нещадно препарировать именно её имя. Оказывается, Жорик Радов, да-да, тот самый рыжий мальчишка, который при мне «пешком бегал под стол», успевший в начале 90-х стать довольно известным писателем, в те же годы «подсел на иглу». Далёкие от поэзии и от литературы писаки прямо-таки захлёбывались, рассказывая о том, как известная поэтесса, руководитель Союза писателей Москвы Римма Казакова продаёт квартиру, как ищет дорогих врачей, чтобы спасти своего единственного сына от наркотической пагубы…
Приврано было немало, однако к реалиям лихие газетчики были близки. Об этом я узнал уже в новом XXI веке от Леонида Жуховицкого. В 2009 году московский писатель, автор прогремевшей в своё время книги очерков «Остановиться, оглянуться» приехал на традиционный ежегодный фестиваль журналистов Тверской губернии «Майские звёзды». Там, в арендованном под фестиваль парк-отеле «Дербовеж» в Западнодвинском районе, мы с ним и познакомились. Разговорились, я подарил столичному коллеге свою книжку стихов «Параллельные миры», а когда в нашем разговоре внезапно вспыхнуло имя Казаковой, стали сразу весьма близкими собеседниками. Жуховицкий, оказывается, был давним другом Риммы Фёдоровны.
– Очень сильная натура – говорил он, – натянутая струна. Сумела всё-таки спасти сына, но знал бы ты, Борис, чего это ей стоило… Ведь, кроме всего, и книги выпускала, и Союз писателей нельзя было забросить. Но мы, московские литераторы, вопреки «разрухе в головах», о которой говорил булгаковский профессор Преображенский, сумели сохранить свой союз. И творческие, и издательские возможности. И всё благодаря Римме. Её сердцу. А оно в конце концов не выдержало…
– Как это случилось?
– Год назад, в мае 2008 года она лечилась и отдыхала в санатории, в посёлке Перхушково. Пошла поплавать в бассейн, нырнула и … не вынырнула. Помянем?
– Не пью уже, сердечко слабое…
– У меня тоже…
Хлопнули друг друга по рукам. Налили минеральную «кашинскую», подняли рюмки.
– И жизнь будет – ёлки зелёные! – такою, какая нужна! – вырвалось у меня.
– Молодец, что помнишь, – улыбнулся Леонид Жуховицкий. – Будет, будет ещё жизнь. И с ней, с Риммой, не раз встретимся. Пока помним.
КОЛЬЦА
Римме Казаковой
Шестнадцать, девятнадцать, двадцать –
тугие юные слои.
Мы начинаем кольцеваться,
и кольца все у нас свои.
Подкову счастья,
омут соли,
сплетенье самых нежных рук
и коловерть хмельных раздолий –
всё замыкает тесный круг.
Круглы стволы,
кругло наитье,
кругло луны твоей лицо,
и за черту уже не выйти,
поскольку замкнуто кольцо.
Его, как свежее преданье,
земля на сердце приняла.
И вновь на кромке кольцеванья
горчит зелёная смола.
1965
Прощальный огонь
(Песня)
Стихи Бориса Рапопорта
Музыка Олега Газмана,
директора Всесосюзного
лагеря «Орлёнок»
Будет ночь окутана не сном,
Будет сон в ночном костре гореть.
Как ты любишь в тишине лесной
На огонь негаснущий смотреть.
ПРИПЕВ:
Вместе с нами, вместе с нами
Юных встреч гроза.
Тишина и лес, и пламя
У тебя в глазах.
Пусть лежит всю полночь напролёт
На плече шершавость верных рук.
И пускай печально пропоёт
О далёких землях близкий друг.
ПРИПЕВ
Будут годы длинные, как сон,
Разгорятся новые огни.
Но огонь, прощальный наш огонь
Навсегда в глазах ты сохрани.
ПРИПЕВ
Лето 1964 г. Черноморское побережье Кавказа. Всесоюзный комсомольский лагерь «Орлёнок», отряд «Искатели».
Избранные стихи
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Я игрушка с талией осиной –
куколка, двойная западня:
вниз стекают очи, облак синий...
Господи, переверни меня!
Вновь ушла душа в сухие пятки –
к непогоде так болят они,
как подняться, выжить – непонятно.
Господи, меня переверни!
Ты услышал – и душа взлетела,
сколько в ней небесного огня,
рвётся ввысь, вот-вот оставит тело!
Господи, переверни меня!
Я игрушка, глупый перевёртыш,
я игрой уже по горло сыт,
и напрасно надо мною квохчет
и когтём гребет иезуит –
так же я несносен и безбожен
в этом зыбком, сыпком шалаше,
что однажды на ребро положат
в утешенье плоти и душе.
2012
***
Цветёт в саду густая жимолость,
Гудит-жужжит в цветах пчела.
Трава росою свежей вымылась,
А вытереться не смогла.
Туманный воздух полон свежести,
Чуть пахнет мокрою травой,
И ветерок летучий с нежностью
О чём-то шепчется с листвой.
1957
ЯЗВИХА
В приземистой тихой деревне
Всё словно в лебяжьем пуху.
Из леса уходят деревья
Бродить по колено в снегу.
Вот утро туманное, раннее,
Встаёт над деревней седой.
Ведёрками тихо позванивая,
Хозяйки идут за водой.
Обратно ступают неспешно,
Боясь серебро расплескать.
Я слышу, как звонкая песня
Отправилась друга искать.
И знаю, что люди остынуть
Здесь песне такой не дадут.
За что ещё и поныне
Деревню Язвихой зовут?
1962
МОЮТ ОКНА
Если станут мутными
На домах глаза,
Вновь по стёклам утром
Руки заскользят.
Моют, моют окна,
В каплю луч продев.
На зелёных стёклах
Бьётся звонкий день.
Солнышко промокло,
Рыжее насквозь.
Моют люди окна,
Чтоб светлей жилось.
1961
ГЕОРГИНЫ
Георгины остались до заморозков
И, пронзительные, как огни,
По чьему-то нехитрому замыслу
Покрываются пухом они.
И сливаются с розовым небом
Неживые их лепестки,
Отнимаю я пальцы тревожно,
Хоть тревоги соей не пойму.
Что ж, цветы отогреть несложно,
Только это зимой ни к чему.
1962
БАБУШКА
Бабушка во дворике за полдень
Варит из крыжовника варенье,
Смотрит в таз, что ягодой заполнен,
Как художник на своё творенье.
А в тазу, гудящем и прожжённом,
На осеннем солнышке горя,
Закипает сахарный крыжовник
Пеной кружевного янтаря.
Всю лучистость разбросав свою,
Замер день в задумчивом томленьи.
Бабушка присела на скамью,
Опустила руки на колени.
На руках морщины и узлы,
След от солнечных лукавых пятен.
О как эти руки тяжелы,
Как узор их близок и понятен.
Тот узор – узор колхозной пашни,
Резкий, но такой правдивый след
И военной бабьей доли тяжкой,
И крутых послевоенных лет…
Ах, морщинки эти – дальний путь,
Вечный путь для новых поколений…
Опустились руки на колени,
Чтоб через минуту вновь вспорхнуть.
Ветер горьковатый дым разносит,
Бабушка присела на скамью,
Просто и светло встречая осень
Пятьдесят девятую свою.
1963
ПЕРВОКЛАССНИК
Зелёные листья желтеют в саду.
Сегодня впервые я в школу иду.
С огромным букетом шагаю, спешу,
Меня поздравляют: «Привет малышу!»
И вот открываю я школьную дверь
И думаю: школьником стал я теперь
И с этого первого школьного дня
Уже малышом не зовите меня!
1957
ПОПУТЧИКИ
Мы только попутчики,
вагонные попутчики.
Смотрим в окно, скупы на слова.
Думаем: а не разойтись ли лучше нам,
Так ни о чём и не потолковав?
Но таков человек:
Дружбой проверенный,
Он нигде не может прожить один.
И даже в поезде - жилище временном –
Ему товарищ необходим.
И мы разговор начинаем, счастливые…
Льдинки отчуждения в воздухе тают.
Вагон гудит неторопливо:
Люди друзей обретают.
1960
РОД МАТЕРИНСКИЙ
Род материнский, род казацкий
Я странно чувствую порой.
Гроза мне может показаться
Нехитрой детскою игрой.
И степь гуляет беспробудно,
Ликует ночи напролёт.
Потом встаёт седое утро,
И смуглый ветр постромки рвёт.
Меня не ранят, не печалят
Ни ветер дикий, ни гроза,
Но к снежной мазанке причалив,
Вновь закрываю я глаза.
Поют диды…
И что вдруг сталось,
Коль впору плакать «казаку»?
По телу растеклась усталость,
Как звонкий холод по клинку.
За ясность дней бездарно пресных
Меня осудят этот кров,
Крутой замес казацкой песни
И вольница старинных слов.
1962
ДОНБАСС
Ветер рыскает лохматый
По задворкам ночью звёздной,
И обсыпаны все хаты
То ль мукою, то ль извёсткой.
Пробуждаются рассветы –
Ветра словно не бывало,
Но стоят дома, одеты
Белоснежным покрывалом.
Ни заря, ни ясный ветер
Белых красок не смывают.
Что белее есть на свете,
Чем дома в донбасском крае?
Но природа таровата
На контрасты,
И не споро
Входят в двери белых хаток
Очень чёрные шахтёры.
Ни заря, ни ясный ветер
Не отмоют эти лица.
Что чернее есть на свете,
Чем шахтёрская станица?
Так, Донбасс, в тебе подчёркнут
Тон извечный – чёрно-белый,
Словно в фильме раннем –
Чётко
И реально до предела.
1962
СЛАВЯНСКИЕ СТАНСЫ
Времён очаковских и покоренья Крыма
случайный гость, бреду я мимо, мимо,
ни ликовать, ни плакать не готов.
На мне Одессы пепел, град Славянска,
родная кровь на площади луганской,
и лупит их с арийским постоянством
сам Киев – матерь русских городов.
Что там орда с тевтонами?! Мы сами
себя обложим красными флажками
и сами будем волчьими клыками
ощериваться на себе самом.
В Первопрестольной, в Питере, в Рязани
родимся мы удельными князьями
и отдадим себя на растерзанье…
О Русская земля, ты за холмом!
Компьютерные дети, вас всё пуще
икота мучит Беловежской пущи,
где пили батьки кислое вино.
Мы сами эту чащу пригубили,
мы сами своё тело разрубили,
мы сами душу русскую губили,
и вновь варягов к осту повело.
Идите! Что с нас брать за полем брани,
когда давно свои же обобрали,
оставя борщевик да лебеду,
пускай и вам из гетманского склепа
поскалит зубы чёрные Мазепа,
пока и вы с собою не в ладу…
Я Русь люблю, но странною любовью,
и Лермонтова томик в изголовье
всё шепчет мне в сумятице ночей,
что на него, наёмника-шотландца,
ещё славяне могут полагаться
и, на кремнистый путь ступя, обняться,
кровавый снова перейдя ручей.
2014
ВЫШНЕВОЛОЦКИЕ КАНАЛЫ
О, вышневолоцкие каналы!
Островов зелёных паруса…
В век петровский,
Славный и удалый,
Здесь мой город юный поднялся.
Из лесов тверских,
смоленских,
псковских
И от Волги матушки-реки
Под началом мудрым сердюковским
Шли каналы строить мужики.
Рыли землю, голодны и наги,
И тесали охтенский гранит.
А канал...
Не знали работяги,
Что о них он память сохранит.
А потом бурлацкая усталость,
Тяжесть лямки...
Видно, неспроста
Здесь следы
От бечевы
Остались
На опорах каменных моста.
Я шагаю вольною Россией,
И у этой медленной воды
Думаю о вечной русской силе,
Всюду оставляющей следы.
1961
ОДА СОБАКЕ
Из Пабло Неруды
У нас шесть ног.
Бежим мы быстро
по полю влажному от рос.
В глазах собачьих, словно искра,
горит, блестит немой вопрос.
Собака смотрит на поэта,
глядит, забыв про след у пней.
Вопрос – он требует ответа,
но что же я отвечу ей?
Несёмся, приминая клевер.
Вот ветер листья стал листать,
и потянулись ввысь деревья,
чтоб тот плоды не мог достать.
Замрёт на миг мой пёс у камня,
уткнёт в траву блестящий нос.
И я останусь без вниманья –
немой и серый, как вопрос.
Так что же я тебе отвечу?
Ведь твой вопрос совсем не прост.
День пробежит, наступит вечер,
и ляжешь ты, поджавши хвост.
Под лапы сунешь нос горячий
и вспомнишь, что пришла весна.
Весна…но что же псам бродячим
она с собою принесла?
Ромашки, клевер – что в них пользы….
Пусть пользы нет, но в эти дни
опять мы бегаем по полю,
весь мир сейчас - лишь мы одни.
И нет ни запахов, ни трелей,
есть только синие леса,
есть только лужи, только зелень
и только светлая роса.
И мир, оранжево-зелёный,
мы видим словно в первый раз,
мир, чуть росою убелённый,
он вместе с нами, он для нас!
Весь из дыхания и роста,
он хочет петь, звенеть и жить.
А я хочу с собакой просто,
как в древности седой, дружить.
И мы бежим, бежим по полю
наш мир так первозданно прост.
На нас двоих шесть ног всего лишь
и лишь один мохнатый хвост.
1962
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Хочешь счастья?
Возвращайся!
Дому старому – поклон.
Оглядись, не обольщайся:
видишь, сед твой ранний клён.
Видишь – брёвна почернели,
паутину серебря,
кочаны закоченели
в огороде ноября.
Ты не веришь в запустенье.
Этот царственный покой,
словно дикое растенье,
оживает под рукой.
Ты снимаешь коромысло
в синих сенях со стены,
чтоб полнёхонькой повисла
пара ведёр жестяных.
На скамье заденешь ковшик,
тяжко шубу скинешь с плеч.
Что безродней есть и горше,
чем нетопленая печь?
Ты сосновые полешки
у крылечка поколи,
но вначале печь – полегче –
докрасна не накали,
потому что даже камень –
человека не виню –
очень трудно привыкает
к настоящему огню.
1964
* * *
Только голос случайный из детства
поманит на ступени моста,
как остудит пора оглядеться:
лето кончилось, с ним – и лета…
Но к чему тебе эти ступеньки?
Не пройти ль незаметно сквозь дождь
за околицу той деревеньки,
где и детство, и лето найдёшь?
И душа обретёт всё, что хочет,
на исхлёстанных тропах лесных:
босоногие ночи
и очи,
опалённые блеском листвы.
Если прошлое рядом, за лесом,
не чурайся прощальных даров,
лишь пробей этих ливней завесу –
этот стык параллельных миров.
2007
* * *
Дни трепетно-недоверчивы,
как нового друга взгляд.
В лесистых просторах до вечера
ветры молодые сквозят.
Шагаю по синему мареву,
спешу по шершавой траве.
И солнце ладошкою маминой
скользит по моей голове.
Что в новую песню попросится,
мне знать не дано наперёд.
Но там, за недальнею просекой,
меня повзросление ждёт.
1962
* * *
Где-то неблизко дом у меня.
Это, конечно, сентиментально.
Ветер поёт и порошу сметает,
и обнажаются реки, звеня.
Где-то со мной новый дом.
Это, конечно, не очень ново.
Ветер поёт у порога лесного,
рыбы на нерест идут подо льдом.
Всё-то в природе совсем не так:
снег расцветает и солнце тает,
ветер поёт и породу сметает,
и полыхает подснежный мак.
Это и верно: не каждому дом –
хлеба краюху да верную крышу.
… Мамы
усталые письма пишут,
рыбы
на нерест идут подо льдом.
1966
ЦЫГАНЕ
На полусонном полустанке
от карих окон за версту
лечили песнями цыганки
свою дорожную тоску.
Хрустели ливни, ливни били
хвостами сочно, как лещи.
И цыганята теребили
случайных путников плащи.
Просили звёзд, сластей, загадок
и не просили говорить,
что мир пока не очень сладок,
что в нём не хватит шоколадок,
чтоб всех на свете одарить.
Неслись стремительные свечи
и удивлялись, проходя:
что можно выклянчить под вечер
у одинокого дождя?
Кому-то крыши не хватило…
Но разве дождь тому виной?
И невдомёк цыганкам было,
что день не тот
и век иной.
Им было попросту занятно
глазеть на ливень, на детей,
и вновь просили цыганята
зелёных радуг и сластей.
В ночь уходили поезда,
и полусонные цыганки
остались петь на полустанке,
а я запомнил навсегда,
что там, где ливни бьют черно,
мой мир глядит цыганским оком,
в своём доверии глубоком
не понимая ничего.
1968
* * *
И вновь снега по всей Руси.
Неведомо, когда растают.
Душе чего-то не хватает.
Чего?
Поди её спроси…
Всегда-то ей недостаёт
и пряников, и красок разных.
Но сберегают от соблазна
и белый снег, и талый лёд.
Сосульку липкую лизни,
ступи в сугроб,
чтобы запомнить
январский белолобый полдень
и новой пресной стужи дни.
Да не поднимется рука
и строчкой эти дни охаять.
Пусть не твердит весною память,
что это можно всё оставить.
… А жизнь прекрасна и сладка!
2010
* * *
Это славная история:
столько снегу навалило,
что земля – как печь, которую
моя мама побелила.
Это праздник детства раннего:
утром встать, а печь – побелена,
ослепительным сиянием,
молоком парным повеяло.
А в ногах зверюшки-валенки,
сунуть ноги, пробежаться,
покружиться сонным, маленьким
и щекой к теплу прижаться.
На стекле травинки плещутся,
индевелый луч пасётся,
а под боком, над полешками,
пляшет медленное солнце.
Так запомнил всё подробно я,
но не знал, что повторится…
Выпал снег.
Земля огромная
дышит жаждой материнства.
1970
* * *
В года забывчивые канешь ли,
пойдёшь ли полосой степной,
запомни, друг мой, эти камешки,
рождённые тугой волной.
Вот тёмный камешек с прожилками,
в нём, верно, целые миры,
года далёкие, прожитые,
дыханье голубой горы.
А этот, светлый, легкомысленный,
в весёлых волнах поживал,
и от веснушек многочисленных
он словно солнце, рыжеват.
Запомни с доброй тихой радостью
не валунов седых бока,
а эту галечную радугу,
всю, что вместит твоя рука.
1964
АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ
У заснеженных излучин
этих гордых горных рек
почему так был измучен
этот тихий человек,
почему он в небо падал,
отражаясь на снегу,
полусонным полувзглядом –
объяснить я не могу.
Видно, так, ломая кости,
всадник с лошади летел,
видно, так Андрей Болконский
в выси сонные глядел.
А кругом – тупые лица,
немота и – благодать:
в небе Аустерлица
ничего не увидать,
потому как в век из века
переходит эта суть…
Князь Андрей,
прикрой ты веки
и про небо позабудь.
Лучше вспомни просветлённо,
как у гордых горных рек
ляжет Богом бережёный
обожжённый человек.
И не будет рамп и падуг –
в жизни проще и старей:
будут люди
в небо падать!
… Падай первым, князь Андрей!
* * *
В четвёртой зоне, в мачтовом лесу
бьют на заре серебряные склянки.
И капелькой стекает по лицу
наивный марш – «Прощание славянки».
Забвенный марш. Судить о нём не нам.
Гарцуя, выезжает казачина,
и припадает, плача, к стременам
моя прабабка – русая дивчина.
Испуганно шарахается конь,
смеётся, подбоченясь, грозный прадед.
Что нам, юнцам, до музыки такой?
Для нас с лихвою новых песен хватит.
В четвёртой зоне, в мачтовом лесу
бренчат, переливаются мониста.
И капелька стекает по лицу
Степанова Витальки, гармониста.
Ах, сантименты...
Развести огонь,
спалить запасы немужских привычек…
В четвёртой зоне
бьёт копытом конь
и мнёт тотальный топот электричек.
ЭТЮД
Всё равно зальются зори,
пар подымется над крышей,
будет прыгать, солнце сея,
говорливая вода.
Так зачем же этот дворик,
утомительно притихший,
и сухие нитки сена
в голубых прожилках льда?
* * *
Красивые и странные слова
в ночи встают и на заре ложатся.
Они не могут долго продолжаться,
красивые и странные слова,
над ними власть реальности слаба.
Я карандаш зелёный очиняю.
«Что делаешь?» — ты спросишь.
Сочиняю
красивые и странные слова.
* * *
Валентину Штубову
Мальчишки, мы не сентиментальны,
боимся нежности, как огня.
И грусти налёт мгновенно сметаем,
замкнутость или беспечность храня.
Для нас даже слово лучшего друга
тогда лишь весомо, когда оно грубо.
Но это лишь внешне – обманчива внешность.
Мальчишки, не нами ль испытана нежность?!
Без нежных признаний – вредна эта громкость –
не мы ль за друзьями бросаемся в пропасть?!
АЛТАЙ
Там травинки-недотроги
зябнут в маревой тени,
там поляны, горы, логи –
только руку протяни!
Там, у бронзовых подножий,
полыхает алый мак.
Там судьба с твоей не схожа,
и ветра поют не так.
От беды легко врачуйся,
по-над сном не мельтеши,
а на Чуйский, а на Чуйский –
и но радуге чеши!
От дешёвого прогресса
улетев на кромку дня,
ты погрейся, ты погрейся
у алтайского огня.
Будет в тягость, будет в новость
пряный запах трав и кож,
но кержацкую суровость
ты приемлешь, ты поймёшь.
***
Из моего окна видна дорога – не очень много.
Из твоего окна видна дорога – не очень много.
Из нашего окна – лишь два луча,
Сходящиеся сгоряча.
1966
* * *
Легла под ноги тайна,
дорогу обогрев,
чернеют очертанья
томительных дерев.
Они вздымают руки
над морем суеты,
и сонный трепет крутит
их резкие черты.
И на меня нисходит
и за душу берёт
круговорот в природе,
очей круговорот.
На маревом Алтае
позёмка в ноябре.
Я поздно постигаю
томление дерев.
Тем круче и бездонней
мне хочется в полон –
упасть в твои ладони
оснеженным челом.
1969
* * *
У речек, как и у людей,
свои бывают имена.
А я пустынник, иудей,
бреду к тебе, моя страна.
Зачем развалины, пески,
шуршанья шелестящий век?
Мне незатейливо плести
травинки росные у рек.
Мне видеть вечность не в песке,
не в тающем искать концы,
мне видеть вечное в кресте
слиянья Волги и Тверцы,
а там,
за сотни сонных вёрст,
она, моя большая Обь.
Я солнце нёс
и сосны вёз,
чтобы она – ладонь на лоб...
Чтобы прижаться к дивной, к ней,
чтоб прошептать:
моя река,
безумством маревых огней
лети, лукава и легка,
перемывая камни вновь,
плыви к истокам бытия,
будь полноводна, как любовь,
и неизбывна, как моя.
* * *
Вётлы рыжие дрожат,
грея пух в ладони.
Спит усталая баржа
на Оби в затоне.
Я шагаю над рекой
по большому свету,
и несу я за щекой
солнышка монету.
По скользящей по меже,
по степи лебяжьей
подойду-ка к той барже,
потолкую с баржей.
Но над нею снег скрипит –
первый пух вчерашний.
Слышь, дружок, мне говорит,
разговоры зряшны.
Не дари её рублём –
дай поодиночиться.
Каждой барже кораблём
стать, должно быть, хочется.
Ты представь себе, представь
суеты ничтожество,
как ушёл ты вброд и вплавь
от людского множества,
от глазастых городов,
слякоти-пороши
до сибирских берегов,
тальником поросших.
* * *
Покорила, покорила
нежный злак
и снежный цвет.
Расколола, раскалила
синий лёд,
а сини – нет.
Говорили, говорили:
лёд не трогай, не губи...
Пролетают кони в мыле
по заснеженной Оби.
* * *
Эти звёзды не тают –
озаряют, слепят.
А на рыжем Алтае
снегопад, снегопад.
Вьются белые перья
по-над чёрной горой.
Это снег мой не первый,
это снег мой второй.
Hа окалину листьев,
на слезинки стекла
белизна бескорыстья,
вековая, слегла.
* * *
Нам жить и жить бы
по-над Обью,
гадать по льдинкам
у реки.
Но так случилось: были оба
от полноводья далеки.
И расстилались снежно степи –
бело всё было на степи.
И без разлужин синих
стены
стояли сумрачно-тихи.
В полночном взгляде,
в ранней речи,
в мерцаньи зимнего стиха
как ощущалось то безречье,
как та вода была горька!
Нам жить и жить бы по-над Обью
и поклоняться ей, реке.
Но плыли дальние сугробы,
и бились жилки на руке.
И в той крови,
что в нас стучала,
что к нам приходит на века,
переплеталась и журчала,
терялась, вновь брала начало
такая близкая река..
* * *
Застигнуты вторым дыханьем сосны.
Ещё седой испариною росной
отсвечивают сонные стволы.
Но их напор на солнышко помножен,
а потому от бронзовых подножий
уходят синеватые снега.
А снег пыхтит, спина его лоснится.
И ветви, как мохнатые ресницы,
прикрыли ослеплённые зрачки.
РИСУНОК НА СТЕКЛЕ
Ладонь лукавством накаляется,
повисла кисточка во мгле.
Ещё бросок — и появляется
изображенье на стекле.
Рисунок броский, непридуманный
и осязаемый почти,
какие ветры бы ни дунули –
ты их насмешкою почти.
Как жить, как быть тебе – не спрашивай
ни у луча, ни у луны.
...Мордашкой глупою гуашевой
все дни и сны мои полны.
Зачем гордиться мне иль горбиться,
искать забвения в тепле,
когда висит в высокой горнице
изображенье на стекле.
Не лучше ль знать в себе хозяина —
с насмешкой грешною и без,
глазеть легко, непритязаемо
на семь земель и семь небес.
ХУДОЖНИК
Олегу Цветкову
Живёт, молчит, сопит в ноздрю.
Но брызнет солнце под Коломной
рисунок чёткий, по канонам
он вдруг сменяет на «мазню».
Зачем, кричат ему кругом,
зачем менять окрепший голос?
Но у него под каблуком
внезапно небо раскололось.
И глядя в сумрак величавый,
он понимает, что не зря
на штрих отточенно-печальный
легла весенняя мазня.
ТЕНИ
Длинные тени
бредут по дорогам,
длинные тени.
В вешнем сплетеньи
сон мой короток,
утро – нетленней.
В этом рассветном безумстве зелёном
разве не счастье –
чувствовать нервом, сквозным, оголённым,
близость напасти?
Разве кромешное это бесчинство –
в грези бессонной
чуять травинкой, слезой и песчинкой
луч занесённый?
Было бы хуже, пожалуй, коль утро
кланялось в пояс,
если бы жить непробудно и хмуро,
не беспокоясь.
Жить и не видеть, как в миге коротком,
в майском рассвете
длинные тени бредут по дорогам
длинных столетий,
как на пороге былого неверья
кто-то, отчаясь,
пробует снова гусиные перья,
ликом курчавясь.
ВЕЩИ
И каравай, и караван, и камень,
и сень древес, и брашна благодать –
как это всё трепещет под руками:
вкусить, потрогать,
просто взять и дать
и каравай, и караван, и камень.
О счастье ощущаемых вещей!
Казалось бы, чего на свете проще:
из бересты и хмеля, и плющей
свиваются мои земные рощи.
О счастье ощущаемых вещей,
о тополёвой ветви ранний росчерк!
И всё же мир не так презренно груб,
чтоб всё ложилось в чёткие квадраты,
чтоб талый снег лежал подобьем ваты,
чтоб из полена прорезался круг,
чтоб были двери жёстко с петель сняты,
чтоб лошадиный запотевший круп
лоснился, бездорожием примятый.
Поверьте, мир не так презренно груб.
Лишь потому я уважать учусь
и каравай, и караван, и камень.
Над этим бьюсь. И если вознесусь
над грешной плотью и над облаками,
я всё равно беру урок у чувств,
которые не плавают верхами.
Лишь потому я уважать учусь
и рамы переплёт, и ветер в раме.
ВОРОН
Летним лесом,
белым бором
в глухомань тропу тяни.
Там, в сторожке, мудрый ворон
пересчитывает дни.
Над ларцом – звездой падучей,
скопидомствуя, живёт:
ясный полдень неминучий
и минувший день зовёт.
Ни к чему столетней птице
мучить рябью гладь чела:
ничего, мол, не случится,
коли связь времён цела.
И слетаются, как перья,
сквозь плакучую сирень
твой далёкий самый первый
и последний близкий день.
Вот захлопнулся над ними
благодати жуткий гнёт.
Ворон крылья не поднимет,
ворон глазом не моргнёт.
ИЗ ШАХИТА БАЛХИ
X век, Средняя Азия
Брёл ночью у развалин Туса,
среди обломков и травы,
и, где павлины тусовались,
я увидал гнездо совы.
Спросил я мудрую:
что скажешь
об этих горестных останках?
Сова ответила печально:
скажу одно – увы, увы...
* * *
Луга не подвластны потравам,
копытным зелёным следам.
Но стелются росы по травам.
подобные сирым слезам.
А им ведь неведомы клячи
и кос голубые края...
О чём ты до солнышка плачешь,
травинка резная моя?
ПУТНИК
Трудно выжить из ума.
Если вас и устрашила
дней несносных кутерьма,
вот вам воля, мыло, шило,
остальное довершила
перемётная сума.
Бьётся в окна ранний снег.
По равнинам дней пологих,
по закрайкам сонных рек,
храмом сосен стоколонных,
мимо всех житейских вех
пробирается паломник –
берендей, огнепоклонник,
очень тихий человек.
Всё, чем раньше он владел,
оплела тропа густая,
унесла журавья стая.
Странен путника удел:
С каждым шагом нарастает
ясность слов, тревога дел.
Прахом ляжет кутерьма,
в топях тягостно увязнет...
И нежданен, без письма,
он вернётся, мой бесстрастник,
а в жилище – снова праздник:
на гвозде дорогой дразнит
перемётная сума.
БЛАГОСЛОВИ
Благослови.
Благого слова
не пожалей
для крова ясного лесного
и для полей.
На тень наличника резного,
на длань ковша
положит пусть благое слово
твоя душа.
Едва дыша,
на смертной кромке,
неслышен весь,
благослови –
и слог твой кроткий
услышит лес.
Благое слово уронит поле
к стерне ржаной,
и дом прадедов твой ковш наполнит
водой живой.
И да воскреснешь!
И оком свежим
взойдёшь во мгле,
и всё осветишь – чем жил и не жил
ты на земле.
А если будет опять кончаться
тугая нить,
ты только вспомни, какое счастье –
благословить.
ПЯТНА
Эти пятна в тёмном небе,
эти очи в ясных лицах,
словно зёрна в целом хлебе,
словно дворики в столицах.
Бьёт тревога поминутно,
потому признаюсь честно –
быть неброским просто нудно,
быть крикливым – неуместно.
И пускай огонь и небыль
устремляются попятно,
ты сумей в вечернем небе
видеть солнечные пятна.
ПОСТКРИПТУМ
По пластинкам, лентам и по снимкам
нас узнают новые года.
Это лишь посланье,
а посткриптум –
то, что унесём мы навсегда.
Двадцать строчек,
скудная приписка,
капля симпатических чернил.
Мой потомок,
сколько надо риска,
чтобы ты ту каплю проявил!
Но внезапной явью озабочен,
в ней увидишь, право, пустяки:
глины ком
и камни у обочин,
мокрый холст
и срез сырой доски.
Мы ещё с тобою вместе сникнем
над пустой загадкой бытия:
почему так мучает посткриптум,
если он всего запас сырья…
* * *
Однажды в сизом утреннем тумане
я напишу об украинской маме.
Прости меня, российская стерня.
Я – с Украины,
ты прости меня.
Я напишу о шахтах, терриконах
и о бродящих коло Дона конях,
о хлопцах – тех, что поят их с горсти…
На миг меня, Россия, ты прости
и отпусти
в тот край, где бродит и до се Шевченко,
где долго думу мучит козаченько
и где под вишней стелется трава,
блестя, как незнакомые слова,
лукавит солнце – паданец осенний,
упавший, словно луковица в сенях –
она была из той, шершавой связки,
из Киевской Руси, из ранней сказки,
из той родной, что в утреннем тумане
споёт мне мама иль спою я маме.
МОРСКИЕ КАМЕШКИ
Сколько раз тасовал прибой
это галечное пестроцветье.
Мы могли разминуться с тобой,
закатиться в рыбацкие сети.
Но свела штормовая жизнь
и притёрла в песке боками.
Ты теперь за меня держись:
я не Пётр, но тоже камень.
Неуступчивый мой кремешок
из лазури, морского света,
кто из нас друг друга нашёл,
разве важно отныне это?
Как же мало, о Боже мой,
нужно в точке земной счастливым:
мы одной рождены волной
и одним унесёт приливом.
ЭРОТ
Тобою вызволен из тьмы,
лежу и глаз открыть не смею.
Душа моя, слеза, Психея,
светильник выше подними.
Ещё ты сон, любовь моя,
зачем же сказку эту губишь
и дразнишь квёлого, и будишь
полоской влажного огня.
Встаю, бреду к твоей руке
и тоже спичку зажигаю,
и нас трясёт на кромке рая,
как эти спички в коробке.
И мы уже не божества,
хоть и не первого разряда,
а черепки и грохот ада,
и пыль, и щепки, и трава,
и обезумевшая нить
слепой зарницы на полнеба…
И не могла никак пролить
громокипящий кубок Геба.
…А после грянула гроза,
и руки мы друг другу грели,
и были взгляды, и глаза,
встречаясь взглядами, звенели.
Уже и ливень отшумел,
уже не хлопали ворота,
а твой светильник тлел и тлел
и мотылёк к нему летел –
подобье бедное Эрота.
МУЗА
Любящий внимать иносказаньям,
песням, параллельным бытию,
я увидел музу за вязаньем –
тоненькую девочку мою.
Я подумал: это всё неправда –
ей витать, как прежде, в облаках.
Но плескалась правдашняя прядка –
пряжа в голубых её руках.
Я подумал: это мне лишь снится.
Но в рассветной дробной тишине
возникали не лучи, а спицы –
палочки, реальные вполне.
На полу, горяч и осязаем,
заплясал оранжевый клубок...
Я увидел музу за вязаньем
и подумал, что и впрямь я Бог.
Муза, как мне с нею было грустно,
если б не проникло в бытиё
не сквозное чувство, а искусство
трепетной умелости её.
Муза, я себя не защищаю,
но пойми, родная, и прости:
как я раньше жил, не ощущая
радости вещей твоих простых?
Как я жил, зачем искал в зените
кружево изящного вранья?
...Расплетает утренние нити
тоненькая девочка моя.
ПЕРЕПЁЛКА
Надо мною совсем не случайно
ветер сильные руки простёр.
Я за ним отправляюсь, как в тайну,
в синеглазые песни озёр.
Там по-вешнему сыро и волгло,
и за синим раздольем лесным
всё кричит и кричит перепёлка:
– Будь моим,
будь моим,
будь моим!
Мне запомнится солнечный лепет,
звон берёз от листа до листа.
Я хочу, чтобы ясное лето
никогда не смыкало уста,
чтоб всегда неумолчно и долго
сквозь разливы, разлуки и дым
мне кричала моя перепёлка: –
Будь моим,
будь моим,
будь моим!
ОБЩЕЖИТИЕ
По существу и по наитию
я только твой.
Весь день шумело общежитие
хмельной листвой.
Скользили радуги за лифтами
в шуршаньи книг.
И лица грешные, залитые
светили в них.
Плескалась музыка безжалостно,
и смех не гас.
Как общежитье провожало нас,
кружило нас!
Потом полётно Домодедово
мело листву...
Мы будем вечными студентами
по существу.
В моих глазах – твои открытия,
твои черты,
И вся планета – общежитие,
в котором – ты!
* * *
Зачем этот зуд и словесный чад,
который мне не удался:
глаголы ползут, глаголы торчат,
как уши царя Мидаса.
Что уши?
Ведь где-то запало зерно –
бормочет, не прорастает.
… Вот яблоко пало, блеснуло окно,
и стая последняя тает.
О, милая девочка, где ты грустишь -
у стаи ли этой далёкой?
А, может, ты кактусы нынче растишь,
не помнишь ни яблок, ни окон?
Но нет, ты и вправду глядишь в синеву,
растерянно ищешь, что было.
Я верю
и глупостью прежней живу,
коль ты мне её подарила.
КОСТЁР
За голубой горою,
за желтизной жнивья
было нас только трое:
ты и костёр, и я.
Было нас трое.
После,
ласкова и светла,
в осень, и дыханье сосен
тихая ночь вошла.
Капля смолы катилась,
в травах сухих виясь.
Как это всё случилось,
где этих вспышек связь?
Дикий огонь - скиталец,
яростный, словно день,
пламенный алый палец
сквозь черноту продел.
Хрусткой коры свеченье,
плещущих искр игра,
пылкое обрученье
полночи и костра,
сполохи, радость, горесть…
Мне и по сей поре
имя твоё – как хворост,
потрескивающий на костре.
ГЛАЗА НАПРОТИВ
Тане
В рабочем клубе коромыслом дым:
и Ободзинский, и дешёвый глянец
портвейна "Три семёрки".
Лихо с ним
тебя тогда и пригласил на танец.
Забавно, как безмолвное кино,
но кабы знать, что будет всё в новинку,
хотя и мы с тобой давным-давно
не маемся под старую пластинку.
Иные ритмы будут у внучат
на том же, на волшебном повороте,
но и для них, я верю, прозвучат
однажды строки про глаза напротив.
Не зря же ими я который год
так безнадёжно, так бессонно ранен,
и Ободзинский доблестно поёт,
и дольше века длится день Татьянин.
* * *
Не спать. Безгрешно видеть мне:
глаза прикрыты у любимой,
и пальцев алые рябины
чуть-чуть колышутся во сне.
О белый свет твоей руки,
лучи, пронзающие ночи…
Мой поздний час бедов и точен,
и стынет вёснам вопреки.
Моя, моя…
И что за блажь –
не спать, глядеть –
в какой надежде,
коль нам не перейти, как прежде,
былой рубеж возбранный наш?
Но как коснуться мне руки,
чтоб снова пережить мгновенья –
от первого прикосновенья
до брега огневой реки?..
* * *
Ветер,
неуравновешен,
бьётся в стенку головой.
Просквозил глаза скворешен
этот холод беговой.
Он тепло опять отринет,
по равнине мельтеша.
Утомится, поостынет
дней незябкая душа.
Отплываем.
В близкой дали
тонет красное весло.
То, о чём едва гадали,
наяву произошло.
Раздвоились, расстроились
непридуманные дни.
Это окна затворились,
очи ясные твои.
ПЕСНЯ
В мае ночи тихие.
Лишь за сотни вёрст
манят, мучат, тикают
стрелки росных звёзд.
Где-то, опечалены,
резки и редки,
мечутся прощальные
дальние гудки.
Впрочем, что им маяться,
коль за сотни вёрст
вновь перекликаются
стрелки росных звёзд.
Звёзды невеликие –
астры без стебля.
В мае ночи тихие.
В мае нет тебя.
* * *
Ты знаешь, а земля
на нежности стоит.
Летит она звеня
и робостью томит.
Сначала руку взять,
прижать её к щеке.
Какие, Боже, зябь
и жар в твоей руке,
и как неотвратим,
как нежен тот исход!
Но мы с тобой летим
в касании висков,
в смежении лучей,
в смыканьи губ и глаз...
Земля была ничьей,
земля теперь – для нас.
* * *
Как мучит неопределённость,
как неусыпна маета.
Она, как первая влюблённость,
полночным солнцем налита.
Весна тоскует и морозит,
и каблучком стучит о лёд.
О что, скажи, её морочит,
что ей распеться не даёт?!
Зачем искрится ранний искус
над бегом белого листа,
и яблока лукавый прикус
томит усталые уста?
ОДНАЖДЫ…
Тане
Однажды из небесной пустоты
взгляну на рай земной, на пляж у Сочи
в надежде, что на нём осталась ты –
из рая в рай и глазу путь короче.
И пусть испита чаша естества,
томления сладчайшего и боли,
пирамидальных тополей листва
тебе ещё шепнёт мои слова
и освятит свечением магнолий.
Лишь об одном прошу:
не покидай
наш изначальный, наш прощальный рай –
хоть бабочкой, но вновь к нему вернися.
А твой ответ из вышней пустоты
увижу, словно лёгкий след стопы –
твой след на влажной гальке Дагомыса.
* * *
Ещё не просит осень
разлучности листа,
но дым далёких просек
приносит высота.
Покинь полночный терем,
ступи на гнёт межи
и этот хлад и темень
на душу положи,
смятенье сени с ними
забвенно обними,
дыхание жасмина,
как бабочку сними.
Настанут испытанья
и тленных листьев боль,
но осень, словно тайна,
останется с тобой.
И в снегопад, и в талость
поймёт твоя рука,
как призрачны усталость,
кромешность ночника.
Под сны сосновых плашек
пусть видится досель:
в саду весёлом пляшет
немая карусель,
плывут огни за шторой
и августовский цвет,
и музыка, которой
обманут целый свет.
* * *
Я тот же. Я стихи ещё плету.
Хожу за хлебом. Делаю, что надо,
как будто бы промёрзлую плиту
не придавила тяжесть снегопада,
как будто бы на день сороковой
в неведомую даль не отлетела
усталая душа ушедшей – той,
которая в моё вдохнула тело
свечение и неба, и земли,
томление вселенской круговерти.
…Уж сколько ближних так, как ты, ушли,
пора бы привыкать к обличью смерти.
Поскольку сам и сед, и дед уже,
приуготовил и себя заране
к тому, что на житейском рубеже
в своём семействе стану
самым крайним…
Но снова в ночь идёт издалека
и неусыпно топчется и будит
всё та же мысль, банальна и дика:
нет мамы,
никогда уже не будет.
2003
* * *
Когда молчат деревья
и птицы голосят,
истомою неверья
наполнен старый сад.
Раскрытый и надснежный,
мой сад, он сам не свой.
И хватит ли надежды,
чтоб вздыбиться листвой?
Как юная криница,
душа его ясна.
Но вдруг не повторится
минувшая весна!..
Остёр ветвистый локоть,
изменчив талый свет.
В ладоши не захлопать –
пока что листьев нет.
И скользкая водица
плывёт из-подо льда...
Мой сад ещё родится,
не зная сам когда.
ДОРОГА ВОДЫ
В Петергофе июльском
с дочуркой с утра
вновь времён постигаем смещенье:
маршируют аллеей гвардейцы Петра,
приглашая нас в Век Просвещенья.
Позолота побед,
менуэты наяд,
у каскадов тревожно и сыро,
и над Финским заливом -
дворцовый наряд
потаённых утех Монплезира.
Но от флейт и лепнины,
чьи зовы остры
и томительны,
шествуем тихо
под ладоши привычно шурщащей листвы,
где обещана внове шутиха
на Дороге воды,
где с опаской пройдёшь,
и внезапно потоки обрушит
этот чудо-фонтан,
этот сказочный дождь,
орошая и тело, и душу.
… Мне вернуться бы к вам,
Петергофа сады,
на закатный свой день тиховейный
и неслышно ступить
на Дорогу воды
не из блажи случайной, шутейной -
чтобы в час,
когда склянки пробьют, не тая,
что тебя покидает светило,
озорная
живая струя бытия
с головы и до пят окатила.
ДОЧЕНЬКИ
Доченьки, доченьки, доченьки мои…
Александр Вертинский
Вот проснулись дочки мои,
болевые точки мои.
У одной за партою место,
а другая сегодня невеста.
Кто однажды останется с ними,
кто продолжит отцовское имя?
Из далёкого нового века
каждой вам я зову человека –
стратотерпца, надёжника, мужа,
не такого, каким вам был нужен –
щедрым лишь на словесные траты
и скупые бананы с зарплаты.
Только вас мне дала дорогая
тоже женщина,
вечно родная,
уберёгшая дальнее, вдовье
тем, что есть этой жизни подобье…
И навеки я буду увенчан
окружением царственных женщин.
Не Вертинский. Но что-то похоже.
Тем судьба моя с вами дороже.
Значит, вам я оставлю в наследство
не одно это сонное детство.
Дай вам Бог продолжения рода!
… Как банальна людская природа,
как бессонна надежда, что снова,
может, вспомните имя отцово.
ПОКРОВ
Вновь Покров на Руси, и багрянцем листвы
белый свет опаляют кровинки предтечей.
… Прадед сгинул в блокаде у стылой Невы,
вражьей пулею дед был со смертью повенчан.
Из учебки шагнув на дорогу бойца,
обезножен был батя свинцовою солью.
Мама, даже не зная ещё про отца,
в степь донскую рвалась из фашистской неволи…
Я родился, поднялся из этой крови,
как случайный росток из трясины весенней.
Я – того поколенья, которому вы
даровали, предтечи, себя во спасенье.
Мы впервые в России за тысячу лет
жизнь прожили, не зная смертельной напасти.
Хоть Афган и Чечня наш военный билет
обожгли,
всё же ворога в отчине нет,
коль не помнить нашествий бессовестной власти.
Как и многим в России, досталось и мне
от жестокой, от ельцинской той лихорадки,
что и ныне гуляет ещё по стране
на подмётках у гладких и падких на взятки…
Но – наступит Покров и обмякнет душа,
и глядит неустанно в бессонную просинь.
До чего ты легка, велика, хороша,
даже с крапом багрянца, российская осень!
Окропи алым светом горячих внучат,
не студи напоследок игру под горою.
И какой бы потом не летел камнепад,
их, кровинок, небесной заступницы плат,
в это верю до смерти,
от смерти – укроет!
РОДИНКА
Я в Древнем Риме был рабом распятым,
был инком у Писарро на пути,
и это я мешал на Дикий Запад
мормонам светоч истины нести.
Я иудей с освецимской жаровни,
я и Гулагом сгубленный мужик
или вчера в московской подворотне
забитый бритой битою таджик –
мне несть числа,
болтаюсь под ногами,
и жертва, и свидетель, и укор,
поскольку не прошёл я вместе с вами
тест на предмет "Естественный отбор".
Когда же доберётесь и до Бога,
вконец изжив земную благодать,
я стану бляшкой на бедре киборга:
сорвать меня – что родинку содрать!
А коль железный коготь и коснётся
той ягодки истаявших кровей,
никто из вас уже не посмеётся
над гибнущей кровинушкой своей.
ДИПТИХ
1.
Курганы скифские, погост у Шегры серой
и прах, рассеянный над Гангом ранним –
вы обернулись плёнкой биосферы,
из мёртвого – живым, моим дыханьем.
Вот надышусь и –
тоже в перегной,
в давнишнюю планетную стихию,
и пусть потомок тоже дышит мной,
не ведая, что жил, писал стихи я…
Пусть так же он до третьих петухов
гуляет по траве простоволосой,
наощупь пробуя ногою босой
погост вселенский, боль его грехов.
Извечное натурное начало
куда важней движения души:
чтоб бесконечно нас земля качала,
дыши, потомок, глубоко дыши!
2.
Меня не научали вере в Бога
ни православный храм, ни синагога.
Шаманский бубен и орган костёла –
вы для искусства неплохая школа.
А что до веры, для меня привычней
берёзовая роща и скворечник,
я перед ними вовсе не язычник –
такой, как все мы,
безнадёжный грешник.
За то, что на моленьях не радею,
озёрную волну боготворю,
меня побьют камнями иудеи,
как Аввакум за два перста – сгорю.
С младых ногтей в одном искал опору:
весь мир театр, мы – его актёры,
талантливые пленники судьбы,
а пленникам не стоит полагаться
на хрупкость саморучных декораций
и суетность придуманной мольбы.
Вот и пишу в линеечку косую,
готовясь к вышней встрече налегке,
и, каюсь, поминаю Имя всуе
на данном Богом русском языке.
ПОЯСЫ
Вновь Пушкин душу окропил
и быль припомнилась святая:
какие поясы купил,
Торжок однажды проезжая,
он, Божьей милостью пиит
и дамской красоты ценитель…
О том с дороги и острит
иных времён столичный житель.
Княгине Вяземской:
«Спешу
послать вам поясы
и, верно,
вам мадригал я напишу –
есть повод: поясы Венеры...»
И князю:
«Каламбур цени -
княгиня-то Москвы всю прелесть
заткнёт за пояс, коль, надеюсь,
наденет поясы мои».
… Простите, Александр Сергеевич,
за вольный писем пересказ.
Аз грешен и за рифмы немочь
прощения прошу у Вас.
А, может, Вы поймёте сами,
моей проникнувшись тоской:
я тоже болен поясами
меж Петербургом и Москвой.
Хоть не показываю вида,
душа чернее, чем мазут:
по тракту старому везут
новинку – поясы шахида…
2003
***
«Не приемлю сего бытия».
Старомодная фраза,
Но вскоре
В этом дыме
И денежном соре
Сам умру я в таком же позоре:
Жестковата чужая скамья.
Нету спинки у ней.
Прислонюсь
К новомирному алчному быту?
Лучше быть уж незрячим, сокрытым,
Чем идти на подобный союз.
Право, лучше оставить своё
Даже в этой негаданной смерти,
Чтобы кто-то в иной круговерти,
В том далёком случайном конверте
Распечатал твоё бытиё.
1995
ТВЕРЬ. ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
В тверском саду у Волги скульптор Комов тебя поставил, бронзовый поэт, не зная, что рачительный потомок окрасит изваянье в чёрный цвет. И за арапом хрипло крикнет ворон: он с Чёрной речки, потому и чёрен!
Метелями пыля,
зачем, скажи на милость,
на склоне февраля
опять стихи приснились?
А в них – такой металл,
чеканен и неистов,
как будто испытал
опять сердечный приступ,
как будто сквозь крупу
позёмочного хмеля
опять летишь в трубу
на свет в конце туннеля…
Но талая вода мне шепчет:
ты упорствуй,
что жизнь ушла туда –
к той набережной волжской,
где век отринул дар
случайных озарений,
но гордый боливар
не скинул с кудрей гений,
и у своей скамьи,
покрытой чёрной краской,
он рэперам с опаской
читает о любви.
СЕНОКОС
Пошто её, костлявую,
с косою
веков ушедших рисовала хмарь,
теперь я знаю:
стёжкой луговою
за мной киборгом следует косарь.
Прокос –
и пали тысячи травинок,
проход –
багряны клевера валки.
Нет для косы ни грешных, ни невинных,
и вновь туман клубится у реки.
Оглянешься на тёмное, пустое,
за что тебе полвека зачтено,
и думаешь, что прятаться не стоит.
Быть иль не быть –
теперь уж всё равно.
И всё ж порою пялишься на небо:
дай Бог, дожди отбросят сенокос
и на бессмертья миг
отсрочат небыль
для тех, кто до бессмертья не дорос.
БРАТЬЯ
– Что глядишь ты в окно полночное,
что за бычьей плёнкой оставил –
для каменьев она непрочная,
поберёгся бы, братец Авель!
– Что праща мне и дротик каменный
коль судьба предрекла дорогу?
Дай часок побыть неприкаянным –
не при Каине, слава Богу!
– Лучше б сгинуть тебя заставили
боль мужская, тропа солдатская...
– Не с кем драться иноку Авелю,
а могила одна будет – братская.
– Но душа-то ведь станет маяться,
непрощённой уйдя в скитания!..
Каин знает, когда покаяться:
без греха нет и покаяния.
ДЕКАБРЬ ЛИСТВЕННЫЙ
Декабрь лиственный, моросящий
над сонной пашней и над дорогой,
декабрь, неистово голосящий
тоской пропащей, ночной морокой –
постылый месяц, в тебе сместились
косые тени, чужие доли,
и не над пашнею опустились,
не над дорогой твои ладони,
а над ненужным тебе посевом,
над позабытыми тупиками
ты оттесняешь совиный север
уже трясущимися руками.
И чем бесстужнее, тем недужней
следить за схваткой рукопашной
поры случайной, сиротски южной
с дорогой прежней, вчерашней пашней.
НАСЛЕДСТВО
В деревне умер мельник.
Похоронив отца,
наследство поделили
три брата-молодца...
Старая сказка
Наконец-то, под старость,
да что-то имеется!
Наконец!..
Но святая твердит простота:
что же делать с нежданно
свалившейся мельницей,
если даже не и силах пристроить кота?
Жернова не скрипят.
Кот на воле гуляет –
не о ней ли, сердешный,
мурлыкал с тоской...
А ко мне подступились,
прищурясь, деляги:
отчего же ты бедный,
коли умный такой?
Не вписался, простите,
в ваш кипеж торговый,
задыхаюсь на бешеной ярмарке дня,
сочинитель расейский,
но вовсе не «новый»,
даже к «фабрике звёзд»
не пускают меня.
А почем они, кстати,
сегодня «звёзды»,
а также мельницы и коты?
(Спрашиваю об этом
не слишком серьёзно,
хотя и не против
«американской мечты»).
Так вот и встречу свой смертный час.
Но звезда,
что мерцает на донце колодца,
не покупается – не продаётся:
она попросту недоступна для вас!
* * *
Я старше стал отца на целый год
и друга пережил уже, и брата.
Я тереблю их снимки виновато,
как будто нет иных теперь забот,
как будто должен я себя казнить
за то, что душу чёрту не продавши,
никак не оборву тугую нить
и с каждым годом их, ушедших, старше,
Бьют пушки,
метко лупят по своим,
а ты всё цел,
а ты ещё в порядке
и даже горд,
что так неотразим,
точней – непоразим,
играя в прятки
со смертью в недолёт и перелёт -
кого ж винить за эту лотерею:
живи пока живёшь, пока везёт!
… Я старше стал отца на целый год,
но вряд ли хоть на день его взрослее.
ГОНЧАРНЫЙ КРУГ
Ты переболел болезнью длинной,
и надежда, что была вчера
колобом сухой и мёрзлой глины,
снова чует пальцы гончара.
Говорят, расплавленно и грубо
этих жёстких рук прикосновенье,
и круженье бешеного круга –
словно бы главы усекновенье.
Впрочем, победителей не судят:
сколько можно формы выжидать?
Ну а что до тех лепных посудин –
их ведь нам придётся обжигать!
В том, горшечник, вся твоя и тайна,
чтобы глина, сбитая со стен,
вновь приобретала очертанья,
становясь обыденной совсем.
* * *
Никогда не листал словарей –
строки сами собой прорастали.
Никогда не пытал дочерей –
как случилось,
что взрослыми стали.
Почему же гудящей крови
никогда не давало покоя
продолженье твоё дочерьми,
а коль милостив Бог, и строкою?.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Не писал на идише, иврите
и России верен до конца,
но всегда вели по жизни нити
мудрого терпения отца.
Он оставил мне не только имя -
иудейский вечный непокой.
Потому звезда Ершалаима
стала путеводною звездой.
Ты всегда со мной, Земля Святая,
а наступит выбора венец,
лишь одно с тобою испытаю:
Бог един.
Равно как и отец.
КЛЮКВА
Не помню себя у отца на ладони,
с того и достала шальная шлея:
не клюкву беру на болотном прогоне,
а жадно слежу за полётом шмеля.
Как будто скрутила жестокая астма,
и так не хватает глотка высоты!
Но кочки сухие пружинят напрасно
под пятками, коим и горки круты.
Опять упускаю осеннюю стаю,
и зуммером зряшно зудит самолёт.
«Чому я не сокил, чому не летаю»
уже мне и мать никогда не споёт…
Зато на болоте такое богатство –
тебе и не снилось, сердечный мужик:
бессчётно целебных таблеточек красных –
тех самых, которые ты под язык.
Насыплю полнее свой короб до ночи,
прикрою оскомину мхом золотым,
а там попрошу: подыми меня, Отче,
да крепче держи – я иду не пустым!
НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Мореходы, рубаки, купцы, рыбари
крепко сшиты и скроены ладно –
ветераны Ост-Индий храбры и добры
на парадных холстах Нидерландов.
Этой низкой землёй, этой зыбью забот
бредит каждый достойный мужчина,
облачённый в белейшую пену жабо,
плащ черней океанской пучины –
больше красок не ищет себе кальвинист
с колыбели до райских застенков.
Что с того, что у Хальса лукавая кисть
знает чёрному сотню оттенков?
У заезжего плотника свой колорит:
этих бликов и радужных соков
даже с мачт Саардама не смог уловить
московит государевым оком.
Он вернётся в Россию то ль божьей грозой,
то ли как неофит ошалелый
и погонит сих малых казённой стезей:
то ль на герб родовой, то ли просто сквозь строй –
верстовой столбовой чёрно-белый.
ИМПЕРИИ
И дым Отечества нам сладок и приятен
1.
Ты всё коришь былой имперский дом,
воздвигнутый фантазией и плетью,
хоть чёртом! – я полвека прожил в нём,
меня оттуда вытащили сетью
и бросили в скукожившийся пруд,
а чтобы рыба сразу не погибла,
теперь перед футболами дают –
глоток перелицованного гимна.
Да мы его не пели и тогда,
греховные живые человеки,
которым, словно талая вода –
и старые, и новые генсеки.
Зато, коль повидаться удалось,
мы, рюмочку за рюмочкой осуша,
орали и «Смуглянку» и «Катюшу» –
глаза с глазами и душою в душу,
и это высший был имперский лоск!
Какой застой, какие плеть да клеть
и чей-то кукиш в дворницком покое:
тогда в башках полнейшие застои,
когда фонтаном лупит только нефть…
Однако хватит плакать о былом –
в конце концов за всё мы платим сами.
Зайдём, мой друг, в иной имперский дом
под грустными родными небесами.
2.
Едва над хмарью невских берегов
орёл двуглавый щёки подрумянил,
из трёх столетий праздник в дом Романов
явился – по-имперски образцов.
На Марсовом парад, народов гам,
грохочут фейерверки на Дворцовой.
А вот Федот – он тоже образцово
с вязанкой дров ползёт по этажам.
Федот, Федовской волости мужик,
с утра в домах доходных топит печи –
не то что Божьим промыслом отмечен,
но промыслом отходным дорожит.
С вязанкой дров по этажам ползёт
и с кочергой – не до забавы царской.
Зато Федотье с чадами на Пасху
и пряников, и ситцу привезёт.
Когда в селе обступят мужики –
видал царя, каков наследник малый? –
глазеть, ответит, было не с руки,
но в Питере изрядно грохотало…
3.
Спешит Федот в избу.
И нам пора
под крышу, что поближе, возвращаться,
где, как и прежде, чёрная икра
знатнее первомайских демонстраций,
а пряником уже не удивишь:
Федот не тот.
И чёрную работу
град стольный обещает не Федоту –
бегущим из-под рушащихся крыш,
хотя и сами под такой сидим
и ждём, кто обустроит и согреет…
В какие ты вознёсся эмпиреи,
империй сладкий и приятный дым?
ПРАВДА
Тот врёт, а этот лишь лукавит,
другой своим аршином правит
былые наши жития.
Вольно же жить такой державе –
она в цветении и славе
неукротимого вранья!
Но, впрочем, ложь порой толкова,
и мне ль фантазии судить:
метафору, эпитет новый
мы проглотить всегда готовы,
а хлёсткий лепет Хлестакова –
кому он может навредить?
Всё стерпит серая бумага
и твиттеру лишь прикажи –
взыграет в нём хмельная брага
и закипит на дне оврага…
Напрасно праведник Гулага
звал жить отчизну не по лжи.
В любые времена крутые,
приемля всяческую власть,
всегда врала моя Россия –
наверно, этим и спаслась.
… Вчера в густой волне сирени
ручьи играли, как свирели,
хрустящей музыкой стекла.
И долгой дробью на опушке
талдычил дятел со ствола
сосновой бронзы звонкой пушки,
кукушка тоже не врала –
честна природа и светла,
испить до крошки бы, до кружки!
… Пошли, брат, врать – у нас дела.
УЛИЦА СМЫЧКИ
Константину Рябенькому
Давай, Константин,
не изменим сегодня привычке
и ранней тропой,
что однажды по жизни свела,
пройдём от Урицкого,
скажем, до улицы Смычки,
под крышей твоей
у старинного сядем стола.
Средь вороха книжек
по рюмочке скромной подымем,
забудем на время
тщеславий мальчишеский счёт,
и в сердце у каждого вспыхнет
наперсника имя.
Ты спросишь, к примеру:
ну как там, мол, Витька Сычёв?
А мне далеко и не надо идти
за ответом:
- «Берёзы за стрельбищем»
явно не канули в Лету,
их автор опять в Бологое,
у связки дорог,
и там, говорят,
он отменным слывёт краеведом…
- А как же стихи?
- Да и музою милует Бог.
- А как поживает в Ильинском
старик Воскресенский?
- Всё пишет и… слепнет.
Но разве не слеп был Гомер?
Сравнение это
в газете своей деревенской
Игумнов недавно привёл
между строчек в пример.
Да все они пишут! И каждый,
как встарь, ненасытен
до русского слова.
И снова встают у дверей
у дома на улице Смычки
и Виктор Никитин,
и тихий Володя –
осеченский наш Соловей!
Для нас они, Костя,
останутся вечно живыми,
и пусть нам самим
неизвестна конца круговерть,
ещё не однажды
заздравную чашу подымем,
ведь слову, рождённому в муке,
неведома смерть!
…Ты скажешь, что мол,
не живёшь уж на улице Смычки,
но коль обнимает ещё нас
родной Волочёк,
давай не изменим мы, Костя,
старинной привычке:
как звонко на Смычке
ложится на струны смычок!
2008
НЕЧАЯННЫЙ СНЕГ
Памяти Владимира Соловьёва
Пали в мае снега
на черёмуху, яблони цвет,
ослепляя округу
холодным свечением млечным.
«В шалях вьюжных деревни», -
заметил когда - то поэт,
обнаружив такой же нечаянный
снег под Осечно.
Брат Володя,
залётный ты мой, непростой соловей,
безутешно тебя вспоминаю
и не понимаю:
неужели прошёлся и впрямь
маеты снеговей
по тебе, по рождённому
в этом обманчивом мае?
Коль примета права,
то недаром примята трава
от Удомли к Судомле
тверскою тропой деревенской.
Не от водки – от ходки
болела твоя голова
в той погоне бессонной
за сутью земного родства,
за журавушкой поздней,
за вечною тайною женской…
Вот и снова дорога с тобой
далека - далека…
И не стоит гадать,
что нашёл ты, мой друг,
на исходе,
коли вновь, не желая растаять
и стечь с языка,
незаёмное слово
ледышкою нёбо колотит,
и, как яблони свет,
проступает строка –
жестковата, остиста,
однако чиста и легка,
как кустистые русые брови поэта Володи…
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Памяти Константина Рябенького
Не понимаю, кто онеметь,
мой постоянный, тебя надоумил,
и потому не могу стереть
в мобильнике имя твоё и нумер.
Я иногда звоню на тот свет
в дурацкой надежде,
в отчаянной глупи,
заранее зная:
ваш абонент
временно недоступен.
И это не мистика и не игра,
над коей живые смеются и плачут.
Просто в приёмной Святого Петра
не могут и отвечать иначе.
Временно всё телефонное там,
где места нет виртуальным сбоям,
где улыбка скользнёт по твоим глазам:
«Давай ещё почитаем, Боря!
Ты слышишь, какие тут соловьи…»
И мы забудем самую малость:
черновики твои и мои
сиротскими на земле остались,
а с ними фамилии – обе на эР
и наши пророческие бессилья,
что лицеисты СССР
окажутся не нужны России…
Ты знаешь, Костя, пегасову рать
теперь на гламурнейшем свете этом
какой-то чудак призывает вступать
в Общество Мёртвых Поэтов.
А что – может, в самый раз и для нас?
Тогда и призвания не нарушим,
а эту мобильно-могильную связь
оставим утехою мёртвым душам.
И коли летейский рассеется дым,
мы ещё почитаем с тобою
и с ведома Отчего поговорим,
да будет и это дозволено Им,
по-лермонтовски – как звезда со звездою.
* * *
Шиповник цвёл. Густая пена
бросала наземь лепестки –
как с пальцев, клавиши Шопена
стекали в зыбкие пески,
и гасло в них неумолимо
дыханья лёгкого литьё,
за шестикрылым серафимом
неся свечение своё.
Мой бедный куст себя не слышит:
его прощальные балы
среди отдушин и одышек,
как ночь июньская, белы.
Но скоро музыка увянет,
и блеск зелёного костра
забудет, как ещё дурманил
иные головы вчера,
а шип осиротевший вспомнит
венец терновый у креста…
Угас твой аромат, шиповник,
но – защитилась красота.
ЗЕРНО
Сколько строк
из нутра не выматывай,
остаётся лишь сор на пути –
в нём, пожалуй, и Анне Ахматовой
ни былиночки не найти.
Снова ночью, каналом, аптекою
утешайся в пределе земном:
Блок не слышит, как ты кукарекаешь
над жестоким жемчужным зерном.
ОТ ПУШКИНА
Куда ж нам плыть?
Мучит прежняя прыть:
ветер галстук на шее
рвёт, как парус на рее.
А некуда плыть.
Дар напрасный,
дар случайный…
На последней версте
износилось пальто,
не тревожит ничто
дар напрасный, случайный.
И давно уж не те
чудеса в решете,
а само решето
стало ситечком чайным.
МОСТИК НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ДАЧЕ ХУДОЖНИКОВ
Как на подрамник, чистый холст
через тишайший мстинский ерик
натянут с берега на берег –
художникам дарован мост,
а проще говоря – мосток:
настил дощат, перила – слеги
и узок даже для телеги...
А Репин был сюда ходок,
поскольку под мостом вода –
медовый сурик в охре листьев,
в такую и макают кисти,
перенося через года
Руси весёлую тоску –
отраду для очей и сердца,
когда нам больше нечем греться...
За это похвала мостку!
Струна Академички, храм,
а заодно и мастерская,
привычно живописцев стаю
ты привечаешь по утрам.
Шершав, горбат и неказист,
ты не позируешь поп-арту.
За верность чуткому таланту
спасибо, мостик-реалист!
Ты отгремевшему давно
и завтрашним зарницам сродник,
старинный мостик –
длань Господня
над светлым озером Мстино.
* * *
Мимо церкви Богоявленской,
мимо давешнего креста
пробираюсь с тоской вселенской,
и котомка моя пуста.
И не видит со мной Всевышний
чутким взором из-под руки,
как на паперть России вышли
потерявшиеся мужики:
кто на курево, кто на водку…
Лба не крестят, а топчут наст.
Что же мимо иду походкой
виноватой
и кто подаст?
ЗАВОД «КРАСНЫЙ МАЙ».
ПОПЫТКА РЕКВИЕМА
Позвольте, заводчик Болотин*
и, скажем, товарищ Шапиро** –
стеклянный букет от Есиковой на вашу плиту!
Увы, красота не спасёт того мира,
который не в силах спасти красоту.
Художник Хролов*** говорил мне:
попомни, Боря.
ещё почище большевики придут:
не то что заделать дыру в заборе –
доберутся до гут,
всё распилят, сожгут,
что получше – без дырки с собой заберут,
а потому – выпьем…/
Чутьём своим рыбьим
ты прав был, художник стекла.
И прости,
что не донести
мне до гробовой доски
твоей нетрезвой скорби пророчество:
тоже поплакать хочется
над руинами «Красного мая».
Но я лишь шапку снимаю
перед вами, рубины Кремля и сульфидная радуга,
перед всем, что отныне не надобно
героям первоначального накопления капитала.
…Болотиных новых Россия не воспитала.
_____________
* Болотин – основатель завода,
**Шапиро – последний советский директор предприятия
***Есикова и Хролов – художники по стеклу.
УЧЕНИЯ
Мне маленькие самолёты
Всё снятся, не пойму с чего.
Белла Ахмадулина
Внезапно небо разверз громовой удар,
внезапно, дичая глазами, поймал самоё ты –
гудящий металл, и не нужен сердечный радар
на эти совсем не лиричные самолёты.
Внезапно в тебя вселился батя-юнец,
сбежавший в июне с экзамена в семилетке
на Цнинский канал, чтобы всласть поудить наконец,
и так же ловящий свистящий небесный свинец,
а рядом, шалея, плясал мотыль на газетке…
Однако не юнкерсы резали свастикой воздух густой,
а миги учебной тревогой, усердные, маялись.
И ты впервые подумал с нелепой тоской,
что каждой новой твари людской
однажды не лишним покажется свой,
хотя бы маленький, апокалипсис.
* * *
Не знали эллины емейла,
но мраморной волною плит
или гекзаметром Гомера
через века их речь летит.
Не ведал кривич эсэмэсок,
но голос слышится родной
в тебе, случайный перелесок,
и в грамотке берестяной.
Благословен ещё, кто хочет
услышать пенье ручейка,
но уж к родне на пару строчек
не поднимается рука.
При тароватости мобильной
почти что как в немом кино
по всей могучей и обильной
народ безмолвствует давно.
Вот и дитя бежит с мобилой,
и душу тешит Интернет,
а с тем, что сердце так любило,
как и с отеческой могилой,
всё связи нет, всё связи нет...
...Так в гулкой толчее вокзала
вдруг поднимаешь глупый взгляд:
– Ты что-то, милая, сказала?
Прости, любимая, звонят...
СКРИПКА
Наслаждаюсь дебютом усердного мальчика –
перед дедом старается милый внучок:
то струну за струною попробует пальчиком,
то поводит по ним ещё робкий смычок.
...Бал не кончен, но кубок осушен до донышка,
и старинный мотив всё святей и лютей:
ты лишь звёнышко, только случайное звёнышко
в непрерывной цепочке любви и смертей.
Остаётся принять утешение праздное,
опростая заветную чашу до дна:
с этим миром прощается каждый по-разному,
а любовь из колена в колено – одна,
и уж в ней-то природа не знает ошибки,
а порою и дарит улыбки свои –
вон как славно весь вечер играет на скрипке
продолженье твоей бесконечной любви!
* * *
Марине Фроловой
Ночью ледащей очнёшься, как в пекле,
в невразумительной боли тягучей:
как поживает кузина в Сиэтле?
Что в Бирюковке у речки Кундрючей?
Как ей, сестрице, среди антиподов?
Не развалилась ли мазанка-хата,
где под приземистым глиняным сводом
мама меня пеленала когда-то?
В глуби российской вдали от Америк
и от чумацкой степной Украины
ищешь на шарике этом свой берег,
где бы по-новому душу скроили.
Крутится глобус, морями охвачен,
звёздною зыбью и Сетью паучьей.
Кто-то в Сиэтле сегодня поплачет,
кто-то вздохнёт у речонки Кундрючей...
И никому не понять этой ночью
то, для чего нас планета растила,
что через дали земные бормочет
вечность устами отца Августина:
Господи, если б себя я увидел,
стала бы полной заветная чаша...
Как к тебе, Отче, слепые, мы выйдем,
в мире бессонном себя не познаша?
РОДНАЯ РЕЧЬ
Что тосковать о русском мужике,
об избах заколоченных – Бог с ними.
Ты погорюй о русском языке,
поплачь, как над ушедшими родными.
Стрекозы потускнеют без слюды,
кукушка на ау не отзовётся
и станет потребителем воды
паломник у забытого колодца.
Уже и слова «русский» след остыл,
пора переходить на россиянский
и новую вульгарную латынь
осваивать во времени – пространстве.
Не вырастут на газовой трубе
ни третий Рим, ни цезаревы рощи,
и во вселенской биржевой гульбе
мы обойдёмся суржиком попроще.
И всё-таки, крутой мой полиглот,
оставь язык Вергилия для мессы,
а то, что не поймёт её вестгот,
неважно – лишь бы крест на грудь повесил.
ДЕЖАВЮ
Уйми-ка свой груз
утраченных дней,
неподнятой лени.
Вон щёлкает снова в кустах соловей,
сияют сирени...
Ты гость на погосте. Его тишина –
случайная милость.
И стоит ли ждать, чтоб снов пелена
навек опустилась?
Неведом тот миг, незнаем тот крест
в молчании строгом...
И пусть никогда тебе не надоест
всё данное Богом.
Ведь что бы однажды на кромке любой
с тобой ни случилось, –
всё это Его всеблагая любовь,
всё Божия милость.
Представь лишь: сгустятся над жизнью твоей
незримые тени,
но будет всё так же будить соловей
безумство сирени.
И этим прекрасно всё, чем я живу,
что сердце любило:
как в давней картине – кругом дежавю,
всё было, всё было...
* * *
Такая печальная повесть: ушла,
измочаленной, совесть.
Как слитны слова у России:
порой не однокоренные,
вестимо, в них кровное есть,
весомое, вешнее – «весть»,
с которой по вязи, по вере
роднилась когда-то и «весь».
Увы, невозвратны потери:
давно нет ни веси, ни мери,
исчезли поляне, древляне...
А живы пока лишь земляне,
в глобальной гоньбе за деньгою
успевшие совесть известь.
Вот я и сижу над строкою,
пытаясь родное, святое
спасти – через время лихое
в словесных корнях перенесть.
Но грохнет столетье металлом –
и грустно откинешь тетрадь:
где совесть без вести пропала,
там не о чем повествовать.
* * *
Один сгубил родной деревни душу –
жёг образа, крушил колокола.
Другой страну огромную порушил
не слишком трезвым росчерком пера.
Один лежит в заброшенной могиле
и горькой лебедой давно пророс.
Другого с царским блеском хоронили
и до сих пор несут охапки роз.
В Иванкове ли,
в Беловежской пуще,
в первопрестольной и незнамо где,
но с каждым веком сатанеем пуще,
забыв вчистую о былой беде.
Построим храм – рванём под мавзолеем,
фабричных щепок да иных не счесть…
Всё рубим, губим и усердно верим:
история дала такую честь!
Имён я никаких не называю:
о мёртвых – хорошо иль ничего.
Порой Аттилу, правда, вспоминаю
и – хватит ли тротилу у него.
ЦНИНСКИЙ КАНАЛ
Осень. Берег Цнинского канала.
Одинокой памяти клише:
на лошадке из папье-маше
я реву сопливый, годовалый,
но трофейной «лейкою» уже
папка клацнул сладко и устало –
снимок сделан.
Вечность миновала,
по гранитным клавишам канала
за мальчонкой звонко проскакала
на лошадке из папье-маше.
Снова листопада карнавал,
где когда-то, душу надрывая,
музыка гремела духовая,
осушая мокрый наш подвал
и народ окрестный собирая,
чтобы каждый внове ликовал:
кончилась вторая мировая!
Впрочем, я не так её назвал,
а сосед, простившись с той войною,
то ли за дунайскою волною,
то ли за амурской поспешал
на своей каталке, на культяшках,
от земли отталкиваясь тяжко,
от земли, которую спасал.
Осень. Сад у Цнинского канала.
Словно ничего и не бывало –
Ни бойца-калеки, ни подвала,
ни лошадки из папье-маше.
А её хозяин постаревший,
в транспорте ином поднаторевший
шествует с коляской вдоль канала
и с законной гордостью в душе:
до меня, мол, дотянись, а ну-ка –
третьего везу по счёту внука,
пялит он глазёнки, но не плачет –
из пелён хоть завтра на коня,
крепкий мужичонка будет – значит,
не моей породы, не в меня.
Да и пусть себе, и слава Богу,
лишь свою бы не проспал дорогу
да осилил эту круговерть.
Маховик времён не остановишь,
но видать, напрасно, ты буровишь:
«Гены передать и – умереть».
Осень. Берег Цнинского канала,
где твоя лошадка проскакала,
унося потёртое седло,
где росточек твой, смышлёныш малый
ловит глазом лист кленовый палый,
где недаром музыка играла.
Круг замкнулся. Время не ушло.
ПРИСТАНЬ
Живой иль мёртвый, выходи!
Гляди, на пристань чалку бросил
твой перевозчик, и у вёсел
перебежавшей Стикс ладьи
молчат уключины – уже
пора без боли и без страха
примерить чистую рубаху
к своей поношенной душе,
а прежде поплескать, помыть,
стереть для вышнего парада
рубцы кнута и шоколады,
трагической морщинки нить
и сыпью, тронутую прыть,
и жалкий след губной помады.
И всё же что с неё стирать,
с моей бессмертной – кто бы спорил! –
ей в сонме ангелов сиять.
И падшей, и убитой горем
не убегать, не уплывать:
к тебе спешить ли, бедный Йорик?
За плоть и плод, за мёд и труд
лишь дождевых червей приют,
нельзя ли что-нибудь получше?
… Немой ладейщик тяжело
подымет мокрое весло,
отчалит весело и зло,
но душу снова не получит.
СЛЕНЁВО
От Андреевского спуска
и до Бежецкого верха
добиралась из Парижа
с командором донна Анна.
Рубят на зиму капусту.
И Серебряному веку
не видна за лесом рыжим
даль свободного романа.
Этот домик с мезонином
не дворянская усадьба,
это дятел, а не сечка
по колодам бьёт сосновым,
это просто именины,
а не сговор и не свадьба,
и полощет ноги речка
повенчавшимся со словом.
- Завтра гости к нам приедут…
- То-то прыгали сороки,
как твои воспоминанья
в африканском чемодане!
- Там я видел людоеда
на огромном носороге. *
Носорог, ты знаешь, Аня,
был похож на Модильяни…
Засыпает деревенька.
Что же страннице не спится?
Да и то – какое дело
до грядущих людоедов?
В тихой горенке Горенко
проскрипели половицы,
и свеча не догорела,
белой ночи не отведав.
Руки голы выше локтя,
а глаза синей, чем лёд. **
За Слепнёвым на болоте
леший больше не живёт.
Николай, да не угодник,
и похож на рыбака.
Ты свободен, я свободна, **
как случайная строка.
Я уснула, мы уснули…
А слепни гудят, как пули
из заоблачной ЧК.
Июль-август 2014
*Стихи Н. Гумилёва
**Стихи А. Ахматовой
КРИВЫЕ
Кривоват был Потёмкин, сиятельный князь,
но причалил к России Тавриду.
Одноглазый Кутузов Отечество спас
и соседей не дал в обиду.
Так с нательным крестом и двуглавым орлом
не увечными - вечными шли напролом,
и лупила глазёнки Европа
на российского чудо-циклопа.
Наши славные чудо-кривые
не склоняли пред ворогом выи.
Да, грешили, душою кривили
по дворцовым покоям и сенцам.
Но когда неприятеля били,
очень ясно всё видели сердцем.
16.04.2014
СЕМЕЙНАЯ САГА. ПИСЬМО НА РОДИНУ
Мой старый друг, Троянская война
ещё не началась на Украине,
и бродят иудеи по пустыне,
и для камней находят имена.
Вот этот станет газовой плитой,
на нём и испеку я опресноки,
потом кулич, когда наступят сроки
и камешек сотрётся под пятой,
и песахиудейский станет пасхой,
хотя и будем с прежнею опаской
мучицу затирать чужой водой.
С тобою, друг, от Ягве до Христа
прошёл я через строй тысячелетий,
давай же вместе это и отметим
и посетим знакомые места.
Пока Донбасс сжимает кулаки,
пока кусманы делят на Майдане,
на земляном полу в луганской рани
станицу снова будят петухи.
Они кричат в той хатке глинобитной,
где, спасшись от зенитного огня,
под кумачом зари жовтоблакитной
когда-то мамка ненькала меня.
И я, рождённый в мартовское лихо,
напрасно льну к пустой её груди,
поскольку на полях колгоспных жмыха –
не то что бы картохи – не найти.
А батька, как петух тот оглашенный,
готов о стенку биться головой:
вчерашний ротный в год послевоенный
беспомощно склонился надо мной.
В Россию по просёлкам и оврагам
они бежали с дорогим кульком.
И я живу семейной этой сагой,
и я умру советским стариком,
хотя сравненье просится иное:
Мария и Иосиф, и дитя…
Пусть пёхом, пусть с ослятей – только трое
всегда уходят, лоб перекрестя,
или добравшись до горы Синайской,
желая твёрдость духа обрести,
всегда нас трое в этой жизни райской,
и у исхода – вечные пути.
Прости, земляк, за тон сей неуместный
в мои уже почтенные года:
бежало не от Ирода семейство –
от голода спасалось.
И тогда
напрасен был для них любой эпитет,
любому слову грош была цена.
И накормил семейство не Египет,
а северная батина страна.
Мне от Украйны ничего не треба,
я буду помнить до последних дней,
как русская земля делилась хлебом,
чтоб выжили мы с мамкою моей.
Я через годы возвращался с нею
туда, где голосишко свой нашёл,
и от домашней украинской снеди
ломился в хате бедный прежде стол.
Борщ с чесноком и со слезой рюмашки,
и в добром сале на сковороде
большихяишен плавали ромашки…
И думалось ли разве о беде?
А як спивали, як же мы спивали,
на всю станицу суржиком звеня!
В своей луганской заграничной дали,
моя родня, ты помнишь ли меня?
Поют ли петухи в родимой хатке,
в той мазанке над земляным полом,
иль не курень уже и не курятник,
она пошла по старости на слом?
Ты знаешь, мой земляк, на этом свете
мы все одна казацкая семья,
от Авраама и от Ганки дети
подымутся в единые края,
где, может, позабудется обида,
что на земле за нас всё решено…
Украйна, что нога у инвалида,
болит, хотя отрезана давно.
13-14.04.2014
***
Когда на Майдане запахло Майданеком,
я снова себя почувствовал данником
Великороссии и Малороссии,
которые шмотки советские сбросили
и позабыв, где лежат родители,
надели покроя кровного кители,
по аглицкой моде – вполне толерантные
(терпимые можно за скобки вынести).
Так некогда юнкера опрятные,
ещё Каховками не помятые,
ходили строем в дома терпимости.
09.04.2014
ИЗ ХАЙЯМА (XXIвек)
***
Что не снилось нашим мудрецам,
может, снится нашим мертвецам.
Ёрничаю, прыгаю, тужу,
а на ту ж дорожку выхожу,
чтобы сладкий сон – земной успех
видеть с мудрецами во гробех.
***
Мой дед политику ценил,
перетасовки в мире
и, уходя, меня спросил:
– Что пишут об Алжире?
Я тоже целый век пишу
не о Прекрасной Даме
и, уходя, внучка спрошу:
– А что там на Майдане?
***
Пить чашу эту – праздная затея,
где «не свои» лежат в своей крови
и снова распинают иудея,
однажды призывавшего к любви.
***
Ах, милые мои, себя оставьте
хоть овощами в Твиттере, Вконтакте,
ещё отправьте прядь седых волос.
А мы живым живые были любы:
глаза в глаза и губы в губы –
лишь это жизнью и звалось.
***
Я жизнь свою поставил на кон –
рубашкой карта вверх легла.
Прости меня, отец диакон,
за чудотворные дела,
что вышла жуткая промашка,
хоть боли сняло как рукой:
писал «за здравие» бумажку,
перевернул – «за упокой».
Вот так всегда он, перевёртыш:
вчера чихал, сегодня мёртв уж,
а всё чудит, чего-то ждёт
и выше сапога засудит,
и то ли Герцена разбудит,
то ль сам не вовремя заснёт.
6.01.2014
***
Прости меня, за всё меня прости:
за лень мою, за боль в твоём колене,
что под окошком жаркие кусты
полны тоски и пьяной дребедени.
Шиповник вновь зацвёл – сошёл с ума,
как мы с тобой от солнечного ветра.
Ты спрашиваешь, будет ли зима…
Всё будет у нечаянного цвета:
и зной уймётся, и глаза твои
поманет одинокий берег цнинский,
совсем ещё не знающий любви,
девичьей доли, боли материнской
… Я мальчик. Значит, вырасту большой,
лоб разобью, коленки покалечу.
С тобой расстанусь с лёгкою душой
и, видит Бог, однажды снова встречу.
2014
***
Як умру, то поховайте на Украйне милой.
Тарас Шевченко
Поховать – скорее спрятать,
словно чёрный ноготь в лапоть,
что нажито без труда,
что не ведало стыда,
не мозолилось – слезилось,
расплескалось по годам,
перепутав гнев и милость:
«Мне отмщенье – аз воздам!»
Мы лежим в степи великой
с васильками, повиликой,
и непаханое поле
никогда не вспомнит нас,
слёзной тучей не отмолит,
потому что в этой боли
нет ни капельки страданья:
что нам предки и преданья,
что нам Пушкин да Тарас?
Как умру – похороните.
Не пишите на граните,
не скребите на металле,
кем мы были, как нас звали
и зачем сюда пришли,
потому что сплоховали,
отчий дом не сохранили:
Украину схоронили
и Россию поховали
в повилике и пыли…
08.11.2013
***
Вчера парило, а потом был дождь,
а завтра – вьюги седовласый ветер.
Настанет день, когда и не поймёшь,
а был ли сам на этом белом свете.
Наверно, был. Вот фото, вот строка,
оставленная спешною рукою,
и детские глаза издалека
следят за ней, пока Господь с тобою,
пока стучат случайные дожди
и осень сыпет под окном багрянец,
и девочкою льнёт к твоей груди,
и приглашает вновь на белый танец.
17.10.2013
DOLCEVITA
Скосила осень рой осиный:
выпрыгивают из дупла
тельняшки, смешанные с глиной.
Ещё шевелятся крыла,
Ещё ползут, не понимая
что за труды
в осином рае
жизнь уготована иная.
…А слаще прежняя была!
10.10.2013
***
Эту строчку тебе, неродившийсямой,
я, как мячик футбольный, пасую.
Эта строчка летит над твоей головой,
я и сам перед нею пасую –
не готовый принять, не способный понять,
от кого этот бешеный мячик
и какую игру ты не дал мне сыграть,
мой смешной неродившийся мальчик.
07.10.2013
***
Когда в постели голубой
среди больничных окон
ты с простынёю сбросишь боль,
как гусеничный кокон,
когда от жаркого жилья
останется водица,
и бабочка – душа твоя
от пут освободится,
куда ты, дурень, полетишь
в застиранном халате,
кукожа ангельскую тишь
в заоблачной палате,
вонзаясь в сеть кардиограмм
и прочих синусоид,
устраивая тарарам
где и дышать не стоит,
ломая крылья на лету,
выделывая трюки,
но – набирая высоту
к спасительной фрамуге?!
Камо грядеши?
Да туда,
где снег на снег ложится,
где неба слёзная вода
метелями кружится,
где не напишешь ни строки,
где никогда не тает,
зато такие ж мотыльки
весёлые летают.
P.S: У летних мотыльков,
к несчастью, век недолог.
Их всех прибрал, и был таков,
Набоков-энтомолог.
19-20.06.2013
ТОРГСИН
Я четвёртый в мире синем
после Троицы Святой!
Я стою в Его торгсине*
за пшеничною мукой.
Я, войны не знавший мальчик,
здесь стою с шести утра,
мне бы обруч или мячик
погонять уже пора.
В этой очереди старший,
магазинный мну порог.
На ладошке карандашный
поистёрся номерок.
Я четвёртый, самый-самый,
пропустите же меня!
Но ушла куда-то мама,
связкой ключиков звеня,
и меня толкают черти –
кто в халате, кто в пальте,
пропускаю всех на свете,
впереди давно не те…
И одно мне лишь понятно:
нет муки у старика,
ведь с авоськами обратно
не бежит никто пока.
05.06.2013
* Торгсин (торговля с иностранцами) – магазин, где в 30-е гг. ХХ века в СССР можно было купить абсолютно всё за золото, драгоценности, а иностранцам - за валюту. В послевоенные годы такой торгсин в моем Вышнем Волочке стал магазином, где можно было «отовариться» мукой, сахарным песком и даже белым хлебом – по одному батону в руки. И всё за советские деньги!
ЧИСТАЯ КРОВЬ. ПИСЬМО ЗЕМЛЯКУ
Я редко спиваю на ридной украинской мове,
я три-четыре словечка помню на идиш.
Я полукровка.
Полная в русском слове.
Может, за это ты меня ненавидишь.
Тебе не по нраву мой крупный шнобель?
Но это, поверь мне, поправить легко:
покатим в Питер!
Там служит Гоголь,
и бродит Бродский, ещё не «нобель» -
оба с носярамиого-го!
Тем и славны они
и аз грешный,
к ним прилепившийся, прикипевший
не одной половиной, а всей пуповиной,
ссердцу любезной усмешкой грустной,
тоже томимый, ранимый, хранимый
желанною речью русской.
Мы с тобой, сверстник, из общей детской
в углу за шкафом страны советской.
Как все на свете, сюда явились
бусинкой звонкой в створке жемчужной,
не понимая, какую милость
дал нам Всевышний,
тогда ненужный.
Нужный – кремлёвский, как ты, не любил евреев,
русичей жаловал ссылкой, голодомором.
С людом братался, поймав верёвку на шею,
зная: от фрица спасёт не один Суворов.
Это, ты скажешь, совсем на стихи не похоже.
Было до них ли тогда лейтенанту Абраму?
Он за два года на фронте
две жизни прожил,
даже не зная, что там и найдёт мне маму.
Знала ль донскаядивчиночка-полонянка
в скотном дворе у бауэра под Гдыней:
русский еврей придёт за украинкой Анкой,
чтоб увезти в Россию в платочке синем?..
Знаешь, земляк,
в этой жизни – всё из любови,
даже моё уже стариковское тело,
вот оно перед тобой – стреляй на здоровье:
Спас на крови давно не боится расстрела.
Помнишь, как Борька шарахнул по Белому дому?
Не самого ли себя и выкуривал тёзка?
После парнишек Кавказу швырял крутому,
плачут ещё и теперь невесты-берёзки…
Я на листовки не буду тратить бумагу,
кто на Болоте и против – не различаю.
Просто однажды в родную землицу лягу,
в землю тверскую, в которой души не чаю.
Грустное русское небо одними снегами
холмики наши и, может быть, рядом укроет.
Мы позабудем, кем были – друзьями, врагами:
грустное небо чурается страсти и крови.
Речь наша русская, тихая наша Россия,
верю, ещё далеко шагнёт с дочерями.
Очень прошу вас, девчонки мои золотые,
чтоб ни словечка в дороге не растеряли.
В каждом словечке от всякого Якова, кроме
корня единого, вечной вселенской любови.
Жаль мне, что в нём не услышал ты голоса крови,
мой землячок,
на чистой помешанный крови…
25.05. 2013
БАЛЛАДА О ПТЕНЦЕ
Был в гнезде одиноким яйцом,
побратался и с двойней, и с тройней.
А с досель незнакомым Отцом
и душа его стала спокойней.
Столько после заманчивых лиц,
столько мошек над ним закружилось,
что не знал уже, с кем и делить
этой трапезы Божию милость.
А душа в скорлупу попросилась,
никого не желая губить.
Только клюв сохранил за собой
оголтело галдевший, летевший
за пернатой пиратской судьбой,
за добычей, на мушке висевшей,
над поляной, от крови рябой,
над землёй, от пальбы одуревшей.
И нашёл под упавшей сосной
одинокое пёрышко леший.
Что ещё рассказать о птенце?
Он давно при небесном Отце.
Мелкий ангел живёт, не жалея,
что явился в багровом венце…
Стать бы этой балладе добрее,
да душа остаётся в яйце,
а яйцо в сундуке у Кощея.
20.05.2013
***
Я, как в аквариуме рыба,
хватаю жабрами жару.
Спасибо, Господи, спасибо,
что я в аду твоём живу.
В железных прутьях кенар бравый,
я перья чищу и пою.
Благодарю тебя, лукавый,
за клетку райскую твою.
Спасибо дудке, просвиставшей,
что Бог не выдаст – чёрт не съест.
Спасибо жизни, потрепавшей
охотой к перемене мест,
за всё, что позади осталось –
и за подъём, и за отбой,
что служба мёдом не казалась
мне со Всевышним старшиной.
13.05.2013
***
Так и жить, не заботясь нимало,
что залётная птаха клевала,
что дождинки шептали на крыше…
А шептали, что ты не услышал,
не схватил озабоченным глазом,
опасаясь за собственный разум,
за своё неразумное тело,
что клевало, шептало, плясало,
лёгкой птахой за крохой летело
и на крыше дождём воскресало.
11.05.2013
ИВАН ДА МАРЬЯ
Какие странные цветы!
Они растут, не понимая,
что есть на свете я и ты,
что их зовут Иван-да-Марья.
И что они едина плоть,
понять бы тоже не сумели,
да помнят, что шептал Господь
им, обручённым с колыбели…
Такие странные цветы
не приживутся у могилок,
и не поднимутся кресты
на ложе луговых двукрылок.
У той высокой муравы
ни разу пчёлы не постились,
в ней две весёлых головы
от лишних глаз запропастились.
И шар кружился голубой
над самопальной мастью карей,
и я склонялся над тобой,
и кланялся Ивану с Марьей.
27.04.2013
БАВАРСКОЕ ПИВО
– Ах, какими мы были глупыми:
забросали фашистов трупами,
заморозили вражью рать.
Упустили цивильное счастье – то,
а могли из бутылки со свастикой
мировое пивко попивать!
– Моей будущей мамке Анке,
с Малороссии полонянке,
не досталось баварского пива,
шкварок с бауэрского стола,
но какой же она счастливой
уезжала домой на танке
и хлёбовом у германки
по горло сыта была…
17.04.3013
ОДУВАНЧИК
На майский луг пришедший ниоткуда
с постриженною в скобку головой,
соседских сосен ловишь пересуды
о жизни долгой, трудной, вековой.
Они горды осанкою и бронзой,
они вот-вот и небо подопрут,
не ведая, что рано или поздно
любые великаны упадут.
А ты, весенний клоун и обманщик,
по осени седины разбросав,
опять смеёшься –
желторотый мальчик,
цыплёнок у бессмертья на часах.
13.04.2013
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
А едва начинает слезиться апрель неопрятный
и стеклянные пальчики пробуют шифер и жесть,
я под пляску капельную в путь собираюсь обратный,
не заботясь, какие пожитки с собою унесть.
Мне напрасно китайская пытка стучит по макушке,
обещая последнюю каплю в коротком веку,
а из ходиков, словно из будки собачьей, кукушка
снова дурит башку своим глупым прощальным ку-ку.
Я устал от топтаний кладбищенских в стужу и слякость,
я и знать не хочу, кто туда же проводит меня.
Мне бы с крыши весёлой в стакан корвалола накапать,
потому что дороге обратной не нужно вина.
По колдобинам сдобным, по глызкам скользя и летая,
по распутице рыжей, прости, терпеливая Русь,
я дойду до тебя, Украина моя золотая,
и под маминым сердцем калачиком лёгким свернусь,
и услышу, и вспомню, как славно – родное – стучало,
как однажды оно торопливо старалось донесть,
что сыновнему веку не будет конца и начала
под капелью, в которой благая проклюнулась весть.
11.04.2013
УДОД
Не нужна в руке синица,
глазу надобно удода –
с этой птицей веселится
вся пернатая порода.
Заявить ты можешь лично
в корпорации вороньей:
непривычно, неприлично
щеголять весь век в короне,
с хохолком своим весёлым
прытко прыгать по сугробам,
щебетать в насмешку квёлым
знатным царственным особам,
между тронутым и троном,
травкой, травмой и трамваем,
кланом, клоуном и клоном
никого не выбирая.
Вот и жизнь твоя такая,
как словесная нелепость,
и бредёшь, не понимая,
в эпитафию ли, в эпос.
На высотах или в сотах –
что ославить, что прославить…
А ведь нужно и всего-то
птичьи буквы переставить,
стать удодом и уродом
с царским зрением и слухом.
И подсолнухом Ван Гогом
с лезвием над лишним ухом.
20.03.2013
***
Не веришь ни в Бога, ни в чёрта,
да слаще кагора елей,
и лезешь на доску почёта
с копеечной свечкой своей,
поскольку давно без промашки
на выигрыш ставить привык…
И снова по питерской Пряжке
шагает Христос-большевик.
За ним и рулишь ты, мечтая,
что съехав с насиженных мест,
душа притулится родная
к твоей на небесный насест,
и ждёшь вертикальной оценки
за то, что всем миром взялись
часовенки ладить и церкви
среди заколоченных изб.
Как много сторожек для Бога
у горестных русских дорог!
А в тереме отчем высоком
живой, не придуманный Блоком,
по-прежнему Он одинок.
4-5.03.2013
РЦЫ
Аз, буки, веди… что там дальше – рцы?
Перескочил – розги бы не мешало…
Церковно-приходские огольцы
в бутики убежали и в кружала,
в планшетники зарылись с головой
и в зазеркалье ботают по фене,
не слыша кашля кашки луговой
или, как ветер в дедовские сени
всю ночь стучит свинцовым кулаком,
зовёт в заречье за родимой речью,
где с ярмарочным шалым говорком
она во рту – как мамкинледенечик!
Аз, буки, веди… что там дальше – рцы?
Пускай и рцы – с той репой в огороде
ещё Кирилл гуляет, а Мефодий
готов нести её во все концы
и подружить с ушами, с языком,
лишь по губам пока и понимая,
что где-то за столичным большаком
лежит страна моя глухонемая.
27.02.2013
***
Я вам не про игольное ушко:
в него и без верблюда проберётся
поднявшийся презрительным шажком
на подиум блистательного «Форбса».
Я вам не про загадочный парад
и пряталки чужого капитала:
не дантовский пройдя – фашистский ад,
иным богатством мама напитала.
За этот клад – внучат своих молюсь:
вихры им золотые
туча лижет,
как будто вновь орда пришла на Русь,
а дань берут по-прежнему свои же.
2013
ВИШНЁВЫЙ САД
Не слышит Садовая шёпота вишен –
Содом по Садовой соляркой течёт.
Столичной России, похоже, не лишний
один светофор твой, малыш Волочёк.
Петровский любимец, имперский осколок,
ты столько всё это уже повторял:
болота укрыли натруженный волок,
свисток паровозный баржу отменял…
Птенцы твои в лёгком слепом опереньи
слетают с насиженных предками мест.
У сцены кричит Станиславский «Не верю!»,
хотя очевидны и слёзы, и жест.
Мой Вышний, мой лишний порою с досады
у Цны царским жезлом подымет весло…
Но словно топор по вишнёвому саду,
транзит по Садовой стучит тяжело.
И что нам оставит, с имения съехав,
какой ещё ряской затянет канал?
Бредёт по граниту прибрежному Чехов,
меняя у пьесы уездной финал.
Но докторской трости, видать, не пробиться
до жёсткого сердца огромной земли.
Он тоже провидцем пришёл из провинций…
Немногие помнят, откуда пришли.
7.02.2013
***
Небо – в крапинку, время – рябое,
и от времени руки рябы.
Не сходить ли, соседушка Коля,
напоследок ещё по грибы?
За маслятами?
Пусть и маслята,
мой отец желтяками их звал
и такими грибками когда-то
автоматный рожок начинял.
Где лежал он?
Где прячется белка,
или в гари за старой сосной
начиналась его перестрелка,
перебранка с паскудной войной.
А теперь лишь сорока стрекочет,
как музея невидимый страж:
вот низинка, а значит, окопчик,
вот горушка – пожалуй, блиндаж.
Не забыть бы и ныне, и присно.
что который уже листопад
пожелтевшие батькины письма
с покорённого неба летят.
5.02.2013
ПИСЬМО С ДОРОГИ
Когда в маршрутке – в братской могиле,
зажатой в соседние автомобили,
мы понапрасну время губили,
как же мы эту жизнь не любили!
Мы не любили, ещё не зная
про петушиный звонок трамвая,
который однажды опять приедет
и отвезёт в говорящий дворик,
где дети гоняют на велосипеде
и шало листья гоняет дворник.
И день начнётся с пейзажа в раме,
знакомого до сердечных колик,
и в поднятом ангелами экране
закрутится наш бесконечный ролик –
с вознёю детской на сеновале,
с бессоницей старческой на перине,
ещё не забывшей, что было в начале,
уже полюбившей, что мы сотворили,
целующей ножки его и темя,
не веря, что время и убивает…
Р.S.:По Восточному в это время
по-прежнему так и не шли трамваи.
И по ТВ всё вели раскрутку
извечной дани столичных улиц
и что-то талдычили про маршрутку,
которая в пробке перевернулась.
А мы с лукошками да стихами
бродили в тот вечер за Колокольней,
играя в прятки с боровиками
в сургучных шляпках что мяч футбольный!
И из весёлых шестидесятых
в ваш нулевой смоляной валежник
струился, словно был запечатан,
просёлочный ёлочный след тележный.
И богатырскою ратью леса
сосна за сосной на пути вставала,
и было вовсе неинтересно,
что там кукушка накуковала.
2-5.02.2013
СТРАНА РЫБАРЕЙ
Ловец человеков – страна рыбарей,
привитая к византийскому посоху,
мёдами, водами да торосами
с Ним исходившая аки посуху
сотни морей через Гиперборей
до Алясок и Калифорний,
ловец человеков, пушных зверей,
страна моя, кто тебя кормит?
Кто, скажи, погружает в кому
этих удачливых рыбарей,
гонявших псов-рыцарей по Чудскому,
спасавших по Ладоге дочерей,
чтоб на землице, омытой кровью,
поставить лествицу прямо в небо,
а ныне согласных и на Московию
в пробках заморского ширпотреба?
Съёжившаяся до мегаполиса,
отшутковавшая ниже пояса,
тебе, трижды клятая и распятая,
сетью, как глобус в авоське, помятая,
прошу не империй и не эмпирей,
а у криницы брусники с мятою –
чая в дорожку для рыбарей.
30.01.2013
* * *
Шекспира маска и рабы Дюма –
не всё равно ли, кто оставил книги.
И с Каина двуногие интриги,
заполнившие свитки и тома,
в своём смертельном миге однолики,
не трогали б досужего ума,
когда бы Автор истинный не смог
направить в сердце поздно или рано
и Гамлета томительный клинок,
и пляшущую шпагу д’Артаньяна.
20.01.2013
С ЯРМАРКИ
Славно ярмарка гуляла
в Богом созданной тиши,
раскрывала, расстилала
что угодно для души
Самый первый мамкин пряник,
от отца велосипед,
сказку деда об Иване,
о стране которой нет.
А страна была такая,
и летел, летел по ней,
не жалея, не считая
бегом взмыленных коней,
и сугробов, и проплешин,
и дорожных кабаков.
Сознавайся честно, грешен?
Грешен, но – без дураков,
потому что не случайны
блеск лыжни и плеск весла,
жаркий шёпот женской тайны –
всё мне ярмарка дала.
Но отмолен и отмочен
этот ярмарочный чад
в золотом дыханьи дочек,
в сладком щебете внучат.
Коли не был однолюбом,
верю, тоже Бог простит:
эти очи, эти губы
свет небесный не застит.
А ещё зачтёт Всевышний
на исходе грешных дней
вечный зов цветущей вишни –
лучшей женщины моей.
Ты да я – нас только двое:
для Адама с Евой рай.
Потому платочек вдовий
никогда не надевай
и поверь, моя родная:
не к платочку голова...
Славно ярмарка гуляет,
да живём-то одновА!
19.01.2013
* * *
Было пальтишко на вырост –
стало одёжкой на старость,
чтобы, пока не сносилось,
снова кому-то досталось.
Может, ещё и укроет
пугало на огороде,
может, и лучше пристроят:
голая правда не в моде.
16.01.2013
* * *
По зябким пальцам тальника
позёмка пляшет гулевая,
а те ныряют в облака,
иные струны задевая.
Но чуждый музыке металл
гудит стеной неудержимой,
и затихает краснотал,
в сумёт упрятав душу живу.
Так мы с тобой среди зимы
молчим и плечи пригибаем,
как будто бы припоминаем
старинную игру «Замри!»
А струнам боли и любви
всего и нужно в снежном дыме,
чтоб пальцы зябкие твои
сплелись, как в юности, с моими.
15.01.2013
* * *
Из ниоткуда в никуда
всю жизнь спешили поезда.
Свистели ангелы ночные
над сиплой гарью паровозной.
Плясали заводи речные
чечётку электрички поздней.
Змеёю выскользнув с вокзала
то ли к Москве, то ль к Петербургу,
слепая молния «Сапсана»
земле расстёгивала куртку.
И где была она, нагая,
твоя родная плоть от плоти,
когда уже на склоны рая
ты возносился в самолёте?
Привычны стали расставанья
и встречи с этими и теми,
как будто жвачка расстоянья
твоё растягивала время.
Но и в небесном кресле тело
вновь оседало глыбой льда,
а за стеклом звезда летела
из ниоткуда в никуда.
05.01.2013
* * *
Александру Ардакову
Нет в этом городе души,
а только запах тленной плоти
того, кто царственно решил
обосноваться на болоте.
И пляска бешеных огней
не оживляет невский задник,
где в тихой ярости своей
века томится медный всадник.
Но почему тогда нога
к державным стременам стремится
и до безумья дорога
его безумная столица?
02.10.2012
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Славен очёс облаками развёрнутой кровли,
пальцы циклопов, замёрзших в ледовый период,
рыбий полёт слюдяной застывающей крови –
кёльнский органный хорал на тебя опрокинут.
Готика та ещё, что и не снилась Европе,
как частокол плавников, опустилась на плечи.
Мало у братьев, видать, ещё кровушки попил –
вот получай наконец и мою, человече!
Самую что ни на есть голубую земную,
цвета любезного гордому сердцу дворянства.
К выдумке жадной и жалкой тебя не ревную
и не тоскую, что нет у неё постоянства.
Впрочем, любуюсь твоею магической силой
перенесенья страстей на полотна и в книжки.
Стрел оперенье и шпаги фаллический символ –
будут отныне незыблемы эти ледышки.
А напоследок, сосульки сбивая, потешься:
ёрзай, мой мальчик, над пазлами скользко икая.
Может, тогда ты и мною напьёшься-наешься,
мной, сочинённой тобою владычицей Кая.
25.12.2012
* * *
Рано утром раму открыть
и увидеть льняную нить,
пряжу Парки, летящую с неба
на ладоши чёрных ветвей,
и не думать, что в жизни твоей
столько было первого снега.
Всё равно он первый всегда,
даже если рифму "года"
с логарифмами сводит старость.
Всё равно этот снег лишь твой,
окунись в него с головой
и не спрашивай никогда,
сколько первых снегов осталось.
Ухватись за льняную нить,
можешь комкать её, лепить
и снежки швырять, и любить,
а кого - догадайтесь сами,
лишь бы снова тебя нашла
из небесной манны лапша
и мальчишеская душа
с оттопыренными ушами.
09.11.2012
САТИР
Ты помнишь, как было всё это тогда?
Ей было лишь двадцать – и это беда:
ты старше на десять, к тому же – поэт.
Иные перины измявши,
к девчонке прилип, но ручайся, старик:
прилип да не влип, коли к мёду привык…
Ты старше, ты старше, ты старше!
Ах, лживый мальчишка, ты рвался в подвал –
к овчинам, на царские шубы
и фавном несносным кромсал и глотал,
и пил эти детские губы.
И вот над тобою обрушился мир
и вспыхнул у девичьей груди.
Тогда ты узнал, козлоногий сатир,
что девочки больше не будет,
не будет той девочки – будет жена.
Женой – и желанною! – стала она:
любила, царила, корила,
лепила, кормила, стирала бельё,
и ты, обожая, смотрел на неё,
когда старшинство простирнула твоё
и разницу вашу ушила.
И было у вас всё не хуже людей –
пелёнки и гонки, и крики детей,
и даже в предместье квартира.
И было давно глубоко наплевать
на старый подвал, на былуюполать
овчины не надо уже подстилать,
и незачем помнить сатира…
* * *
Уже ты запутался в слове,
а твой удивительный внук
и лобик наморщил, и брови
поднял, словно доктор наук.
Затихни и сникни, и скисни,
как ветер в потухшей листве,
над тайной рождения мысли
в немом до поры существе.
Да, что-то уже балаболит
и кажет свой первый зубок,
но это знакомый до боли
ты сам, твой ненайденный Бог,
ещё до конца не готовый
сквозь толщу немыслимых лет
из Хаоса вытащить Слово
и Словом явиться на Свет.
2012
СЛОВО О ПОЛКУ ОТЦОВОМ
Рождённые в года глухие...
Александр Блок
Родившиеся в года глухие,
в серёдке века – в средневековье,
когда отцы – молодцы фронтовые
воткнули в прясла у хаты копья,
усатому снова подставив выи,
что мы,
в штанишках из старых юбок,
могли увидеть в отцовских муках?
Мы ликовали с утра до заката,
мы без конца патефон заводили
и следом за Бунчиковымтвердили,
что, мол, и нам помирать рановато.
А вот отцы уже помирали –
в пивнушках горсадовскихи на вокзале,
где плач Ярославны слышен едва ли,
им наливала родная страна,
и за победу они осушали,
но и тогда свои ордена
в коробках для спичекаршинных держали.
А спичи пылали в Колонном зале:
наденьте, фронтовики, ордена!
Они завязали. Но не надели.
Поскольку были давно при деле –
о семьях радели, коптили, коптели,
все чаще вскакивали с постели,
отхаркивая кусочки свинца.
Вот так и я потерял отца,
а с ним и застрявшие в прясле копья.
Истинный сын средневековья,
так же, как батя, рвусь из жил,
будто совсем ещё и не жил,
бегу вприпрыжку за веком новым,
а ночью мыкаюсь, что не сложил
Слова о пылком полку отцовом.
2012
ВОЛКОДАВ
Мне на плечи кидается век-волкодав...
Осип Мандельштам.
Знаешь, Осип,
бессмертный мой выкрест,
что расчётливый век-волкодав
твои кости опальные выкрал
и на Сотбис удачно продал.
Позвонки не нуждаются в клее,
обойдёмся без лишних затей:
нынче даже изгои евреи
Холокост превращают в музей.
И окажет ещё Мандельштаму
город ссылки калининской честь:
С Мишей Кругом –
ни много, ни мало –
на скамейку предложит присесть.
Бард был тронут тюремным угаром
не взаправду,
но рядом с тобой
очень смотрится Круг на бульваре –
он теперь Мандельштамокружной!
Был весьма не лилейного нрава
твой сокамерник иль визави,
но фамилиям чёртовым – слава
на бульваре народной любви.
Вы настроите вместе гитару,
чтобы публике Миша сыграл
не про век-волкодав –
про волчару
и Владимирский, скажем, централ.
Подойду к вам и я, полукровка,
ни монеты при том не подав,
потому как за пазухой ловко
похозяйничал век-волкодав,
а теперь по плечам, по затылку
шарят когти и рвут воротник,
и никак не найдут на бутылку –
в самый раз она нам на троих!
2012
БАЛЛАДА О ТРОСТНИКЕ
Срывался узкий косогор
в утробу чавкающих кочек
средь глаукомных пузырей.
Одной руке мешал забор,
ощерившийся сворой волчьей
наружу выгнанных гвоздей.
Тянулась правая рука
к полкам гвардейским тростника
и что б её остановило,
пока зовёт ещё душа,
вцепиться на краю могилы
в медвежьи шапки камыша –
в спасенье?!
Да не тут-то было:
стена живого шалаша
переговаривалась с ветром,
хотя порой и безответным,
но шелестя, блестя, шурша.
Я вспомнил:
мыслящий тростник!
А ты хотел в безумном кроссе
схватить за шапки, за волосья
радаров певчие колосья,
пришельцев скрывшие тайник.
Но ветр рванул,
и тростники
ко мне волною накатились,
как будто сами ухватились
за пальцы ищущей руки!
Я перепрыгнул хлябь и сник,
лежал, глядел в чужое небо,
где кто-то радовался немо,
что никогда роднее не был
друг другу мыслящий тростник.
2012
* * *
Ни суррогатных матерей,
ни честный опыт опекунства
судить не смею: долг и чувство
чем первозданней, тем верней.
Но повернётся ли язык
назвать наёмной иль приёмной
страну, которую привык
считать родной любой бездомный?
Под пляс попсовый и галдёж
твой сын изверившийся, слабый
всё ждёт, Россия, что придёшь
к нему простою русской бабой,
шепнёшь, ликуя и скорбя:
«Ну вот и встретились, о Боже,
я в муках родила тебя,
я никогда тебя не брошу!»
Поднимешь пыльного с колен
в ещё неведомой печали
и, может, вспомнишь Вифлеем,
где Сына божия не ждали...
2012
ГРОЗА
Поначалу ведь и не смикитишь,
отчего в предгрозье весело:
не ушёл под воду гордый Китеж,
а вознёсся, словно НЛО!
Ширится, темнеет, громыхает
да ломает месяцу рога:
то ли там коса нашла на камень,
то ль под ветром рухнули стога.
Серые избёнки громоздятся,
а рядком клубятся купола,
и опять не заглянувши в святцы,
кто-то гулко бьёт в колокола.
Да, видать, тревожится по делу
наверху неведомый звонарь:
вновь орда степная налетела –
не попустит ей небесный царь...
И когда сверкнёт ещё над Русью,
ты под крышу зябко не беги,
а послушай, как в высокой кузне
отбивают косы мужики,
как свистят литовки, осеняя
росные укосные луга,
и растут, всё небо заполняя
скуфьями лазурными, стога.
Полюбуйся райскою работой
в запотевшем облачном стекле,
от которой ты душой убогой
напрочь отказался на земле.
2012
***
Читаю старческие книги о любви –
из красной плоти выковыриваю зёрна
гранатовые, явно не мои,
на белый свет кидать их не зазорно.
Куда стыднее выдавить зерно
своей любви, своей кромешной плоти.
Я староват,
я тароват давно:
под кожурой гранатовой вино,
что ж, черти вы весёлые, не пьёте?
Февраль 2015
***
Мальчик Иисус швырял снежки
и у бедной матери Марии
побелели за зиму виски:
варежки у мальчика сырые.
Отрок Иисус писал стихи –
плакала Мария Магдалина
без весны, без ангельской тоски,
без признаний плотницкого сына…
Господи, прости меня, прошу,
что в ночах черёмушных старея,
я с Тобой всё дальше ухожу
от Луки и Марка, и Матфея…
Видно, и апостолы Твои
думали, что лучше сохранится
за семью печатями
страница
и сыновней, и мужской любви.
А по сути снова жизнь проста,
даже в сны стекая золотые,
и стоят у Твоего креста
только мои женщины святые.
12-13.01.2015
***
У этой подушки, у облака с неба снятого,
у погремушки с облатками, кружки воды
заведи свой будильник на полшестого-полпятого,
а лучше и вовсе не заводи.
На заре ты её не буди.
Пожалей её, душеньку, ради пропитого и пропетого
для распятого – взятого облаком молодым,
ибо сказано: Богу – богово, Фету – фетово,
а тебе ещё надо стать и тем, и другим.
Февраль 2015
***
По-дембельски обезоружен,
по-ангельски почти тверёз,
кому-то ты в Фейсбуке нужен
со смайликом из вялых роз.
А было время, скопом пили
от ягод солнечных живых,
и, веселясь, тебя лупили
и ты кого-то бил под дых.
И вот во рту ни капли брашна,
а под рукою – ни рожна,
и помирать уже не страшно,
а жизнь и вовсе не страшна.
Лупи же клавиши, разбойник,
играй в сердечную игру,
она сама найдёт достойных
и доведёт до точки ру.
2-3 апреля 2015
Борису Камрикову
***
Ломал черёмуху во вторник,
а в среду, скиснув от тоски,
как молоко, на подоконник
она пролила лепестки.
Зачем ломал, и сам не знаю –
привычка с юности жива,
и всё белее с каждым маем
скупой черёмухи слова.
Хоть под окном на пару веток
мой бедный куст осиротел,
тебя, дитя тепла и света,
ничем обидеть не хотел.
С тобою, милый, мы едины:
я тоже берегу седины,
даруя, радуя, слепя,
и так же в январе ли, в мае
меня ломали и ломали
и в вазу ставили любя.
А если станем перегноем,
то, значит, мы того и стоим
на этой праздничной земле,
где с лепестками ветки млечной
я по траве лечу беспечно –
ведь и трава пройдёт по мне.
14-15.05.2015
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК,
ПАМЯТНИК ВЕНЕЦИАНОВУ
Это всё, как сказано в анналах,
было наяву,
и гений места
у мольберта не в плену каналов,
но в пределах Вышнего уезда
с кистью зрит на бабу крепостную,
на мадонну с бастрюком господским,
поминая мать свою честную,
наслаждаясь благородством плотским.
Не случилась Паша Жемчугова,
и менять кокошник было поздно:
сей наряд для Пятницкого хора
пригодится на земле колхозной.
Это всё для нас придумал Комов,
честный скульптор времени баранов,
и с кошарой новой не знакомой
сочинивший Русь Венецианов.
Это и записано в анналах
кистью и резцом или стихами
на помин любви земной сих малых –
выросших сиротами при маме.
12-13.08.2015
* * *
Житие се – сень и сон.
Завтра праведником станешь,
если Господа обманешь,
что и сны тревожил Он,
что и сам ты не юрод,
что-то значил в этом плаче:
все слова переиначил
для натруженных пустот,
где и сны по-детски сладки,
где с кладбищенской оградки
прослезится божий дождик
на веселый подорожник,
коли сердце прорастёт.
03.03.2016
* * *
От «Бога нет» до «Господи, прости»,
как у комет, просты мои пути.
И я лечу с кометами взахлёб,
и неофит, я разбиваю лоб,
не помня, что не опыт и не глаз
мою снежинку во вселенной спас,
а Тот, кто в звёздном инее светил
свой маятник однажды запустил,
кто полюбя тоску былых комет,
простил меня за то, что Бога нет…
10.03.2016
Евгению Ступкину,
автору «Книги детства»
* * *
Мальчики российской глухомани,
мы с тобою сверстники, дружок,
и меня с тобой в былое манит
памяти пастушеский рожок.
Всюду – у Болонинки ли, Цны –
неизбывны тяготы и беды,
а отцам, вернувшимся с войны,
горек вкус доставшейся победы.
Но Россия, родина жива,
и бегут мальчишки по отаве,
не мечтая о любви и славе
а ловя лишь первые слова.
Книга детства пишется уже,
не забыть бы нам в неё вглядеться,
чтоб на крайней жизненной меже
передать внучатам книгу детства,
чтоб нашли на дедовском лугу
и они чем с другом поделиться,
чтоб в любую новую пургу
душу грела старая голица.
18.03.2016
РОМАНС О ПОСЛЕДНЕМ ЛИСТКЕ
На ярмарке жизни был клоуном рыжим,
но слёз намороченных высох исток,
а стужа всё ближе, а небо всё ниже,
и скоро сорвётся последний листок.
Последний листок,
наступает твой срок,
и даже О`Генри
придумать не смог,
какой ты багряный,
боец безымянный,
какой ты желанный,
как ты одинок.
Я знаю, когда прогремит и обмякнет
кукушкиным эхом прощальная медь,
в отделе особом пред господом Богом
с тобой мне, листок, не придётся краснеть.
Последний багряный
кленовый листок,
с дождями, ветрами
ты справиться смог.
Но где же твой праздник,
мой глупый и страстный,
по осени красный,
как в детстве флажок?
Хоть новая сила тебя и простила
и даже сменила на милость свой гнев,
о том не расскажешь - ты пляшешь и пляшешь
среди почерневших от тучи дерев.
Последний багряный
кленовый листок,
летишь под мосток ты
в поток- водосток.
Ты рвался на небо,
но иноком не был,
и Бог не спасёт
мой последний листок.
Когда же дозволят по новой родиться,
тогда и наступит иная беда.
Последний листок мой, твоя плащаница
краснеет от крови, а кровь - от стыда.
Такая вот штука –
проспал и профукал
я целое царство
на грешной земле.
Пошто же, пошто же,
о господи Боже,
лишь боль, а не стыд
и приходит ко мне?
26.03. 2016
ВОТ БЕГАЕТ ДВОРОВЫЙ МАЛЬЧИК…
Я книгу бытия читаю
на берегах плакучих ив,
прочитанного не считаю
и всё кого-то почитаю,
прося прощенье и простив.
Я не о том, что век недолог,
что меньше знаешь – крепче спишь,
но умиляет мартиролог
и книжных полок, и афиш,
где кто-то был, а кто-то не был,
но тоже плакал у пруда,
когда туда с ночного неба
чужая падала звезда,
и караси её глотали
и пропадали без следа
в прибрежном иле, в краснотале,
но вспоминали иногда,
что у пруда дворовый мальчик,
седой, как рыбья чешуя,
с планшетником знакомит пальчик,
читая книгу бытия.
… Ты спросишь, что же будет дальше?
А то же, что и у меня.
И будет, как в хорошей сказке
… в салазки Жучку посадив,
себя в коня преобразив…
И Пушкин мчит свои салазки
по берегам плакучих ив!
02.04. 2016
НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ
Испуганно первая капля упала –
бескрылая, словно недужный птенец,
вторая сама себя в пыль закопала,
потом засвистел по асфальту свинец.
Лупил по прямой, залетал в подворотни
и снова прямился, и падал в кусты,
как будто бы гвозди вколачивал плотник –
небесные гвозди в земные кресты.
Стонали и пели слепые сирени,
шиповник оборванным цветом кропил,
как жертвенной кровью, зелёные сени,
а плотник небесный лупил и лупил,
раскраивал крыши повздошно, подушно,
и кто-то задраивал окна свои,
и мокрой была уже чья-то подушка
от слёз о потерянной первой любви…
10.06.2016
***
На скошенной траве дремали кошки,
не чуя корневого с ней родства,
а я глазел с улыбкою сторожкой,
с внезапным обожаньем естества.
Я человек – из тех же, из кошачьих
искавших, лобызавших чей-то след,
ловящих солнце, как котёнок мячик,
и устиславших травы тысчи лет.
Живём, телами землю укрывая –
лягушки, кошки, люди, муравьи.
И каждый здесь своя душа живая,
и вместе все мы, Господи, свои!
… Не разорить, не тронуть ни листочка,
ни пташки, ни осиного гнезда…
Белковая бессонная цепочка
сама себя жалеет иногда.
26.09.2016
***
Я обидеть тебя не хотел, но обидел,
и ты это припомни по смерти моей
для себя. Просто так. Чтоб никто не увидел
то, что было всего мне на свете стыдней.
И тогда пропадет оно пропадом, может….
О как грязны подошвы и жалки слова,
о которые шаркают ноги в прихожей,
а потом, и погаснув, болит голова!..
27.09.2016
ЛЕРМОНТОВ
Не заботясь ни о чём нимало,
над ущельем, где теряя власть
царского девичества, Тамара
в поцелуе с демоном слилась,
маленький, горбатый, кривоногий,
шут в полку и сирота в семье,
он бредёт кремнистою дорогой
в гости к Богу – к самому себе.
2017
ДЕРЖАВИН
Слабеет слух, пора запеть «коль славен…»,
но если Бог прикажет дольше жить,
услышу лицеиста, как Державин –
ладошку только к уху приложить.
По правде для иных пиитов гаджет
душе куда любезней, чем старик,
но все же верю, что еще расскажет
о блеске царскосельском ученик.
А коли не расскажет, и не надо:
цвети, родное Царское Село!
Лишь бы тебя за громом канонады
сердечное тепло не подвело.
И на твоих дорожках шелест вальса
всегда я, тугоухий, различу,
а что до «Гром победы, раздавайся!» –
слыхал и слышать больше не хочу.
27.09.2016
БОЛИДНАЯ БАЛЛАДА
Убога жизнь за пазухой у Бога.
Кричу в тоске: «Полцарства за коня!»
А Он, поверх очков: «Куда дорога?
Ты погостил бы, милый, у меня.
Не хочешь? Что же, Пётр, отворяй…»
Альцгеймер мой, как он трясёт ключами!
Не потеряй, ключарь, не потеряй
своё святое место за плечами.
(Ты вылитый полковник отставной,
что некогда в редакции родной,
трясясь, ключи мне выдавал на вахте
и всё твердил: себе вы их оставьте.)
Оставил
и себя ты не губи,
а я лечу (ту би о нот ту би)
больным болидом. Бубликом от дырки.
Тельняшкой после океанской стирки.
Кричащим камнем, брошенным с балкона.
Законником, бегущим от закона.
Не нужно ни полцарства за коня,
ни самого коня.
А за плечами,
бескрылыми,
тоскует за меня
мой ангел
и уже не замечает
бикфордов шнур, пронзивший облака,
курятник и крапиву у сарая –
убогий сколок ада или рая,
сыгравший славно в ящик на века,
когда она, земля моя – живая!
… Прекрасно, что давно убита плоть,
что так лукавы точки под очками,
не спавшие, всё знавшие ночами –
убога жизнь, но милостив Господь.
10-12.10.2016
МОЛИТВА
Отче, что еси на небеси,
смертных нас к себе перенеси.
Не истопчем в небе облака,
а душа у лётчика легка.
Верю, что сумею повидать
в горнице Твоей отца и мать,
а ещё мне, Господи, верни
деда, не пришедшего с войны,
не оставь у вечных тополей
без родной, без суженой моей,
без друзей, которых пережил,
без врагов, с которыми дружил.
Яи тут с Тобой не сирота,
но начавши с чистого листа,
святый Боже, правый на Руси,
всех в своем обличье воскреси,
чтобы каждый думал, не спеша,
для чего нужна была душа,
чтобы каждый, коли Ты помог,
хоть на небе не был одинок.
март 2014
КНИГИ БОРИСА РАПОПОРТА:
Земляничная поляна: [стихи] / Б. А. Рапопорт (Братов) // Стихи молодых. - Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1971. — С. 69 — 92.
6000 экз.
Содержание: Ах, что творится…; Земляничная поляна; Не хватает мне нежности; Летним лесом…; Хочешь счастья?..; Живу, над тобою не властвуя…[и др. стихи]
Ветры марта: [стихотворения] / Б.А. Рапопорт. — Вышний Волочек: ГрафАрт, 2005. — 115 с.
ISBN 0-БР-ВМ
Параллельные миры: стихи разных лет / Б. А. Рапопорт. — Вышний Волочек: Вышневолоцкая типография, 2008. — 79 с.; 18.
ISBN 978-5-87049-619-1: 30.00, 250 экз.
Родинка: избранные стихи / Б.А. Рапопорт. — Вышний Волочек: Вышневолоцкая типография, 2011. — 197, [2] с.; 18.
ISBN 978-5-941-24-0432 (в пер.), 300 экз.
Божья дудка: стихи 2012-2014 годов / Б.А. Рапопорт; предисл. В.И. Львова; об авторе О.Б. Воеводовой . — Вышний Волочек: Вышневолоцкая типография, 2014. — 120 с.
ISBN 978-5-94124-053-1 (в пер.), 300 экз.
ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ И ПЕРИОДИКЕ:
На старте пионерской двухлетки: стихи / Б. А. Рапопорт // Мы в жизнь идём. — Калинин: Калинин. кн. изд-во, 1961. — С. 44 — 46.
Первоклассник / Б. А. Рапопорт // Пионерская правда. — 1962. — 31 августа (№ 70 (4616)) . — С. 4.
Первооткрыватели: [и др. стихи] / Б. Рапопорт // Обыкновенные люди: рассказы и стихи. - Калинин: Калининское кн. издательство, 1962. - С. 81, 82. - Содержание: Первооткрыватели; Мы только попутчики, вагонные попутчики... . - ISBN 1-11-1
15000 экз.
Если станут мутными на домах глаза… / Б. А. Рапопорт // Товарищ: лит.-худож. сб. / гл. ред. А. Гевелинг; фото Л. Михновского; худож. А. Коршунов. — Калинин: Калинин. кн. изд-во, 1963. — С. 92
10000 экз.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Над селом занимаются зори / предисл. А. Д. Дементьева. — Калинин: Калинин. кн. изд-во, 1963. — С. 41 — 43.
Морские камешки: [и др. стихи] / Б. А. Рапопорт // Смена: лит.-худож. и обществ.-политич. журнал ЦК ВЛКСМ . – Москва . – 1964. – № 23 (901). – С. 20 – 21. – [фото]
Содержание: Морские камешки; Уходят от матери сыновья; Борька Лагин; Девчата [и др.]
Улица ждет хозяина [очерк о досуге молодёжи] / Б. А. Рапопорт // Смена: лит.-худож. и обществ.-политич. журнал ЦК ВЛКСМ . – Москва . – 1965. – № 15 (917). – С. 2 – 3.
Стихи / Б. А. Рапопорт (Братов) // Вечер поэзии: новые стихи поэтов Алтая. - Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1968. — С. 23 — 29.
Пять самых первых [рецензия на стихи молодых поэтов Алтая] / Б. А. Рапопорт (Братов) // Алтай: литер.-худож. и обществ.-политич. ежеквартальн. альманах / Алтайская краевая писательская организация. — 1968. — № 2 (45) . — С. 106 — 111.
Стихи/ Б. А. Рапопорт (Братов) // Алтай: литер.-худож. и обществ.-политч. ежеквартальн. альманах / Алтайская краевая писательская организация. — 1971. — № 3 (58) . — С. 24.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Дружба: поэтический сборник. — М. : Московский рабочий, 1979. — С. 129. — 130.
О, Вышневолоцкие каналы… / Б. А. Рапопорт // Русская провинция. — Тверь, 1996. — № 2. — С. 50.
Щедрость: поэма / Б. А. Рапопорт // Ради жизни: сб. стихотворений и прозы [вышневолоцких авторов] о войне / [авт. вступ. ст. А.Т. Суслов]. - Вышний Волочек: Ирида-прос, 2005. - С. 86 - 91 . - ISBN 5-93488-037-3
Возвращение [и др. стихи ] / Б. А. Рапопорт // Вышневолоцкие зори: [сборник стихотворений и прозы]; предисл. Л. Какшинского. — Вышний Волочек: Свирель, 2006. — С. 45 - 54.- [портр].
ISBN 5-87049-423-0, 500 экз.
Содержание: Возращение; Вышневолцкие каналы; "Расскажи мне, речка, о Бояне"; "Кроите волны стругами"; Разговор с Цнинским и др. стихи.
Вместо послесловия. Поэзии ребяческие сны... / Б. А. Рапопорт // Крылатые качели: стихи школьников Вышневолоцкого района / ред.-сост. Б. А. Рапопорт. — Вышний Волочек: Филиал ОАО ТОТ "Вышневолоцкая типография", 2008. — С. 57 - 59.- [портр].
500 экз.
Не знали эллины емейла... : [и др. стихи] / Б. А. Рапопорт // Тверь: альманах / сост. В. А. Редькин; отв. ред. С. Ю. Николаева. - Тверь: Волга, 2010. - № 11. – С. 367 – 373.
Содержание: Не знали эллины емейла... ; Скрипка; Лютень; Ночью ледащей очнешься...; Верба.
ISBN 978-5-904518-10-3
Мишка [и др. стихи ] / Б. А. Рапопорт // Радуга над Волоком: сборник произведений для детей; предисл. Л. Какшинского. — Вышний Волочек: Ирида-прос, 2011. — С. 77 - 81.- [портр].
ISBN 978-5-93488-072-0, 700 экз.
Содержание: Мишка; Первоклассник; Грибной; Моем окна; Борька Лагин; У Мстинской плотины; Под гитару; Ночная сказка.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Тверь: литературный альманах / Тверское отделение Союза писателей России; сост. В. А. Редькин. - Тверь: Волга, 2011. – № 12. – С. 367 – 373.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Тверь: литературный альманах / Тверское отделение Союза писателей России; сост. В. А. Редькин. - Тверь: Ванчакова линия, 2013. – № 13. – С. 385 – 389.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Тверь: литературный альманах / Тверское отделение Союза писателей России; сост. В. А. Редькин. - Тверь: Ванчакова линия, 2014. – № 14. – С. 70 – 76.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Цнинский берег: Стихи. Проза. Авторская песня. Поэтические переводы: (К пятнадцатым Соловьёвским чтениям в Осечно / Литературное объединение "Цниниский берег"; сост. Б. А. Рапопорт. - Вышний Волочёк: Истоки, 2016. - С. 82 - 94.
ISBN 978-5-9901675-3-9, 1000 экз.
Стихи / Б. А. Рапопорт // Тверская поэзия XX - XXI веков. Антология /Тверское отделение Союза писателей России; сост. В.А. Редькин. - Тверь: ТО "Книжный клуб", 2016. - С. 257 - 261.
ISBN 978-5-903830-53-4
ЛИТЕРАТУРА О ТВОРЧЕСТВЕ Б. А. РАПОПОРТА:
Маркова, Т. «Земля на нежности стоит» [о книге Б.Рапопорта «Родинка»] / Т. Маркова //Тверская жизнь. – 2012. – 18 января
1. Бойников, А. «Быть неброским очень нудно» [о книге Б.Рапопорта «Параллельные миры»] / А. Бойников // Вече Твери. – 2007. – 20 января.
2. Нек, В. Там, где пересекаются миры [о книге Б.Рапопорта «Параллельные миры»] / В. Нек // Тверская газета. – 2008. - № 53. – С. 12
3. Кочеткова, К. Ветер жизни Бориса Рапопорта [о книге Б.Рапопорта «Ветры марта»]/ К. Кочеткова //Тверская жизнь. – 2010. – 1 июня
4. Маркова, Т. Земля на нежности стоит: [о книге Б.Рапопорта «Родинка»] / Т. Маркова //Тверская жизнь. – 2012. – 18 января
5. Ковалёва, Г. Я тот же… Я стихи ещё плету…: [о книге Б.Рапопорта «Родинка»] / Г. Ковалёва //Вести Максатихи. – 2012. – 4 мая
6. Петров, М. «Пытаясь родное, святое спасти…» [о книге Б.Рапопорта «Родинка»] / М. Петров // Тверские ведомости. – 2012. - № 24 (15-21 июня). – С. 22
7. Хваткова, Ю. «Я увидел музу за вязаньем…» [о книге Б.Рапопорта «Родинка»] / Ю.Хваткова //Спировские известия. – 2012. – 6 июля
8. Маркова, Т. «Паломник у забытого колодца» [о книге Б.Рапопорта «Божья дудка»] / Т. Маркова //Тверская жизнь. – 2014. – 30 сентября
9. Власова, Л. Стихи о родине и о себе [о книге Б.Рапопорта «Божья дудка»] / Л.Власова // Вышневолоцкая правда. - 2014. - 1 октября
10. Бурилов, В. Поэт, не просто стихотворец [о книге Б.Рапопорта «Божья дудка»] / В.Бурилов // Тверские ведомости. – 2014 .- № 40 (13-19 октября). – С. 19
11. Николаева, С. «Услышит ли Бог?». Вечные вопросы в новых книгах тверских поэтов: аналитический обзор /С.Ю. Николаева //Тверь: литературный альманах. – N 15 /Тверское отделение Союза писателей России; сост. В.А. Редькин; отв. ред. С.Ю. Николаева. – Тверь: Издатель А.Н. Кондратьев, 2017. – С. 336 – 385.
НА ОБОРОТЕ ОБЛОЖКИ:
Автор этой книги недаром считает себя счастливчиком. Его душа с юных лет «животворилась» не только родными людьми, но и встречами с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, с выдающимся оперным и эстрадным вокалистом Муслимом Магомаевым, знакомством, а порою и дружбой с прекрасными поэтами Виктором Боковым, Андреем Дементьевым, Риммой Казаковой… О родных корнях и о людях, ставших славой Отечества, повествуют рассказы по памяти Бориса Рапопорта, гармонично сочетаясь под одной обложкой с его избранными стихами. Свою шестую книгу член Союза писателей и Союза журналистов России, Почётный работник печати РФ, лауреат литературной премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина приурочил к личному юбилею. Высокий возраст и позволяет автору «Песочных часов» говорить с читателем о самом главном – о воспитании души, о бессмертии каждого, кто прожил жизнь с людьми и для людей.
Адрес сайта: http: //rapoportboris.ru